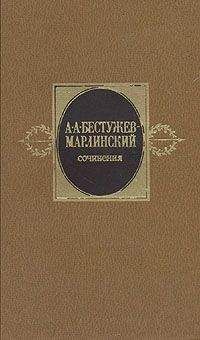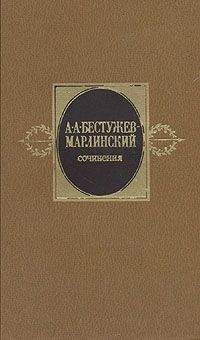Сергей Голубов - Бестужев-Марлинский
Ночные прогулки не прошли для него даром.
Вскоре приехал Трубецкой. У него были важные сведения: Константин ни в каком случае не примет престола, и принесенная ему присяга — напрасная и опрометчивая затея. Трубецкой полагал, что надо предвидеть именно такой оборот дела, заранее приготовясь им воспользоваться. А воспользоваться следует непременно.
— Если ж слух сей несправедлив, — говорил он, — то надобно выждать, что предпримут на юге. Это очень может случиться, что южные подымутся, ибо они готовы взяться с каждого случая. Обстоятельства чрезвычайные и для видов наших решительные. Когда же Константин Павлович отречение не подтвердит или южные случай сей пропустят, тогда надлежит просто объявить общество уничтоженным и действовать каждому, оставшись друзьями, сообразно правил наших и чувствований сердца, но сколь можно осторожнее.
— Как же именно, князь? — прохрипел Рылеев.
— Вот как: стараться года в два или три занять значительнейшие места в гвардейских полках.
Рылеев быстро повернулся на бок.
— В таком случае полезно будет обязать членов не выходить в отставку и не переходить в армию.
Трубецкой одобрил эту мысль и уехал.
К полудню у дивана, на котором лежал больной, собрались Александр и Николай Бестужевы и Каховский. Рылеев передал им свой утренний разговор с Трубецким и добавил от себя:
— Любезные друзья, предстоит ли действовать или нет, но человек осторожный, хладнокровный и предусмотрительный нам нужен в начальники. Не таков ли Трубецкой? Он с именем, гвардия его знает, да и полковничьи его эполеты весят много, чтобы показаться перед войском. Я предлагаю Трубецкого в диктаторы.
Никто не спорил.
Бестужев видел ясно, что Рылеев вовсе не хочет отказываться от действий. Будущее представлялось сегодня уже совсем в другом виде, чем вчера, когда он писал письмо в Сольцы. Быть заживо привязанным к трупу — тяжело, но привязан не он один, и не лучше ли влачить грозную судьбу не в одиночестве? Брат Николай ответит за себя — он разумен и осмотрителен. Другое дело — Мишель, пылкий, молодой и неопытный. Как взглянуть матушке в глаза, когда погибнет Мишель? Он ходил по комнате, раскуривая трубку за трубкой. Наконец не выдержал и схватился за шляпу. В четыре часа дня он был уже у Мишеля, в Московских казармах. Братья заперлись и разговаривали долго.
— Ты не годишься для этого, Мишель, — убеждал Александр Александрович, — хоть солдаты и любят тебя, но не забудь — ты вовсе недавно командуешь ротой. Не забудь и другого — ты обязан благодарностью к Михайлу Павловичу; он перевел тебя в гвардию. Тебе ли платить ему злом?
Мишель слушал встревоженно, с серьезным лицом. Но последний аргумент брата его рассмешил:
— А чем, любезный Саша, думаешь ты отплатить своему герцогу за его немецкие ласки?
К девяти часам вечера оба Бестужевы приехали из казарм на Мойку. Комнаты Рылеева были полны посетителями. Карточный столик придвинут к дивану, на котором лежал больной. Вокруг него сидели Трубецкой, Оболенский, Николай Бестужев, Каховский, Арбузов из гвардейского экипажа и Сутгоф из лейб-гренадерского полка. Было похоже на заседание.
Речь шла о том, что делать, если Константин трона не примет и не приедет. Говорили все вместе, громко выкрикивая проект за проектом. Рылеев прохрипел что-то о захвате Кронштадта. Кто-то напомнил о Петропавловской крепости. Трубецкой сделал отрицательный знак рукой: не следует разбивать силы. Арбузов мрачно сказал, что надо будет занять дворец.
Трубецкого коробило от этих беспорядочных возгласов.
— Обстоятельства покажут, что делать, — сухо и неопределенно выговорил он, и волна возбуждения постепенно начала спадать.
В маленькой комнате было тесно, жарко, и синие облака трубочного дыма свертывались под потолком.
Рылеев начал задыхаться. Багровый от жара, кипятившего его внутренности, хриплый, он вертелся на диване и говорил. Слова его, царапаясь, сползали с сухого языка.
— Предвижу сам, — твердил он, — что не будет успеха, но потрясение необходимо. Тактика революций заключается в одном слове «дерзай!». И, ежели это будет несчастливо, мы своей неудачей научим других…
Такой взгляд на предстоящее был нов и увлекателен свыше всякой меры. Бестужев чувствовал, слушая
Рылеева, как мир становится другим. Уже все равно, что будет и как. Лечь под пулей, сгнить в каземате— безразлично, лишь бы дрогнуло и проснулось царство, продремавшее века.
В полдень 30-го приехал на Мойку Оболенский. Рылеев сообщил ему, что Трубецкой выбран в диктаторы одной отраслью. Оболенский сейчас же дал согласие свое и за свою отрасль [50]. Кроме того, рассказал, что им принят сегодня в общество подпоручик гвардейского генерального штаба граф Петр Коновницын, сын покойного военного министра. По родству Коновницына с Сутгофом. Оболенский поручил ему быть в день восстания в лейб-гренадерском полку.
К двум часам появился Трубецкой — он навещал больного ежедневно именно в это время. Услышав о своем избрании в диктаторы, князь смутился. Оа долго отговаривался, ссылаясь на то, что давно уже не служит в строю и что гвардия его забыла, на скорый отъезд в Киев, даже на характер свой — мягкий и нерешительный во всех случаях, когда дело идет не об одной только личной храбрости. И, наконец, дал согласие очень неохотно, уехав с такой поспешностью, как будто опасался, что его схватят и вернут. Он был заметно расстроен, и блеск нового положения в тайном обществе не разгладил ни одной из морщин, которых было немало на его худом лице.
Затем прибежал Кюхельбекер. Узнав о болезни Рылеева, он бросил множество важных литературных занятий, чтобы осведомиться о здоровье. Кондратий Федорович слушал возгласы Кюхельбекера, который не умел говорить тихо, как все глуховатые люди, и думал. Кюхельбекер вдруг заметил, что рассказы его упали в бездну, и обиженно замолчал. Но Рылеев улыбнулся так жалко и страдальчески, что Кюхельбекер мгновенно кинулся к нему с объятиями. Рылеев попросил его прикрыть дверь и сесть рядом. Кюхельбекер ушел с Мойки членом общества.
Батенков пришел около восьми часов, по его словам, «посмотреть» Рылеева и застал у него, по обыкновению последних дней, несколько человек. Все говорили вперебой, ходили из комнаты в комнату, пили чай, дымили трубками, и картина эта очень не понравилась Гавриле Степановичу. Но особенно возмутил его Арбузов, который кричал:
— Да что! Очень просто на солдат действовать. К примеру, ежели взять большую книгу с золотой печатью и написать на ней крупно «закон» да пронести по полкам, то все сделать можно, чего бы ни захотели…