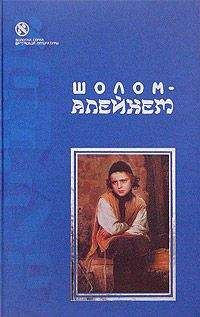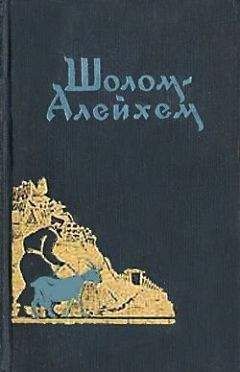Лев Друскин - Спасенная книга. Воспоминания ленинградского поэта.
Вот эту красивую сахарницу подарил нам Юра Черняк. Ручку от крышки отбили на таможне: смотрели, нет ли чего внутри, в фарфоре.
А эти чашки оставила на память Гитана. Муж ее Володя, нывший заместитель директора Баргузинского заповедника, теперь портье в каком-то венском отеле. Но они разослали предложения в университеты разных стран и надеются, все-таки надеются.
Вот смешной шотландский солдатик от маленького Миши Войханского. Его мама четыре года назад перебралась в Англию, а мальчика не выпускают. За него вступался аж сам Иегуди Менухин, но у правительства с матерью свои счеты.
А этот фонарик с наклеенной польской розой — от другого Миши, нашего близкого друга. Недавно мы получили отдельную квартиру (первую в моей жизни), и он помогал во всем — стелил линолеум, обивал дверь, делал проводку. Он и его жена Инна еще в Ленинграде, но вот-вот придет разрешение. Если, конечно, придет.
А это от Риты и Бори — они в Америке.
А это от Юры Тувина — он, кажется, в Исландии.
А это от нашей Эммы — она в Тель-Авиве.
291
И опять бьется в висках, колет болью тургеневская строчка:
"И все они умерли, умерли…"
Лиля представила, как еще недавно мы шумно сидели за столом — любящие, преданные, счастливые нашей дружбой.
"Помнишь ли меня, мой свет,
В дальней стороне?
Или ты не думаешь
Больше обо мне?"
Ей стало так страшно, что она отвела взгляд от полок, но он неудержимо возвращался.
Тогда Лиля заплакала и повернулась к серванту спиной.
ПРЕДПОЧИТАЮ ТРАГЕДИЮ –
У Димы на отвальной — человек десять, и все раньше или позже едут. Обстановка деловитая — ни слез, ни горя.
— Позвони такому-то, он в Атланте.
— Не скучай, скоро увидимся.
— Нет, старик, что ни говори, в Бостоне лучше.
— А вы куда собираетесь?
— Все равно. Я не туда, я отсюда.
— Вы слышали, а в Новой Зеландии…
Не слышал! Не хочу слышать! Я не любитель фарсов, Ш предпочитаю трагедию.
Одна женщина (не стану называть ее имени) после долгая мытарств добилась наконец разрешения. Она подписала отказ от подданства, отправила багажом вещи, продала все оставшееся до нитки, чуть свет добралась до аэродрома и не смогла уехать — сердце не позволило, ноги не понесли.
Мой друг Юра как-то сказал:
— Там же все чужое! Если река называется другим, пусти даже хорошим словом, — какая же она река?
— А если поедут дети, внуки?
292
Это был жестокий вопрос, и Юра ответил не сразу. Понимаешь, — проговорил он наконец, — когда честного человека ведут на пытку, он надеется, что выдержит. Но, бывает, и не выдерживает. Вот и я надеюсь… Он вымученно улыбнулся:
— А, впрочем, не дай Бог — лучше об этом не думать!
ПИСЬМА –
Лежу и перебираю письма — клочки судеб, разлетевшихся по свету:
"Кто это идет по 5-ой авеню в твидовом пиджаке и галстуке от Лорана? Это я иду — Григорий Семенович Розенцвейг. Мог ли я представить, что такое когда-нибудь случится?"
"Дурак!" — думаю я, и беру в руки письмо от Лены Домнич.
"Познакомилась с двумя симпатичными стариками-миллионерами.
Они смотрят на меня и, наверное, думают:
— Удивительно! Из Советского Союза, а человек!
А я гляжу на них и думаю:
— Надо же! Миллионеры, а люди!"
Вот письмо Ильи Рубина — ленинградским друзьям:
" Вы спрашиваете, как мне здесь? Мне плохо, потому что рядом нет вас".
А это от Эммы:
"Боже мой, что я наделала со своей жизнью! Что я натворила! Зовут во Францию — не хочу, в Италию — не хочу. Сижу целыми днями и реву, как дура".
Письмо Володи Фрумкина из Америки:
"Пока вода не дойдет до горла, сиди на месте. Если можешь не ехать — не уезжай".
И дальше:
"Америка — поезд. Вскакивать надо на ходу. И горе тебе, если промахнешься".
293
А вот толстая пачка стремительно исписанных листков Она долго ходила по Ленинграду, а со вчерашнего вечера лежит на моем столе. Это письма Александра Воронеля. Я беру верхнее и еще раз перечитываю поразившую меня фразу:
"Нельзя покидать родину без особой на то необходимости".
Так вот что значит слово "навсегда"…
Друзья! Поток их горький нескончаем…
О скольких мы вершин не замечаем —
Как поредела горная гряда!
Уходит в ночь вагонное окно
И самолет исчез в глумливой сини…
А мы — домой. Нам скоро суждено
В своей стране остаться на чужбине.
НЕ ХОЧУ-
Нет сил глядеть!
Откуда такое усердие и такая жестокость? Роются у старух в волосах, выдирают страницы из записных книжек, ломают игрушки.
Почему последнее воспоминание о родине должно был таким ужасным? Кого радует это унижение, это отчаяние эти таблетки, выпавшие из трясущихся рук?
Под ногами хрустит валидол…
Уезжаем, дружок, уезжаем.
Не покажется родина раем,
Если ад напоследок прошел.
Молодой парень задержался у входа в таможню. Родители засуетились:
— Юра, иди скорее. Он вдруг сказал:
— Не хочу. Они не поняли:
— Куда не хочешь?
294
Он сказал:
— На таможню не хочу и уезжать не хочу!
— Ты с ума сошел! — всполошились родители.
Он повторил со злостью:
— Не хочу уезжать!
Махнул рукой и пошел.
БЫЛО –
Звонок Лили Инниной маме.
— Ну как уехала Инночка — чулки снимали?
— Слава Богу, нет.
— А трусы?
Смущенная пауза. Потом со вздохом:
— Было.
ПОСЛЕДНИЕ СЛОВА –
Снова отлет.
Пожилой человек, страшно волнуясь и картавя, говорит провожающим:
— Уезжают храбрецы — остаются герои!
И сразу вспомнилось недавнее изгнание евреев из Польши и гордые прощальные слова:
— Когда уедет последний из нас, не забудьте погасить свет!
ИСХОД –
Это стихотворение написалось внезапно, и сначала я сам не знал, о чем оно.
Но когда я случайно прочел его друзьям и увидел на их глазах слезы, я тут же понял, что оно об исходе, о тех, кто навеки покидает родину, разрывая живую стонущую ткань.
По таможенным законам ни одного русского слова (на-
295
писанного или напечатанного на машинке) за границу вывозить нельзя. Приходится прибегать к способу, предложенн му Генрихом Гейне. Помните его "Зимнюю сказку?"
"Глупцы! Чего в чемоданах искать?
Ведь там ничего не найдется!
Моя контрабанда в моей голове
Повсюду со мной везется".
Читать мысли КГБ еще не научилось. И друзья, прощаясь со мной, заучивали мое стихотворение наизусть:
Хотите я вам нарисую
Две лодки и два корабля,