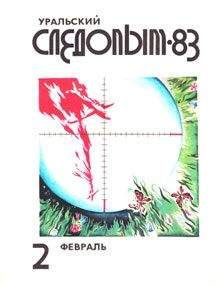Лев Копелев - Хранить вечно. Книга вторая
- А как же я понесу мешок, в зубах что ли?
- Возьми мешок, - одному из солдат. - Давайте прекратим разговоры. - В голосе металл. - Предупреждаю: шаг в сторону, вставанье в машине, разговоры или крики - конвой применяет оружие без предупреждения.
Ну что ж, испытаем и эту новинку - браслеты. Руки на спине стараюсь держать поудобнее, не напряженно. Короткий щелчок. Стиснуло.
- Больно! Вы что же, пытать собираетесь?
- Ладно, ладно, отпусти там на поворот-два.
Щелчок. Тиски расслабили.
- Ну как?
- Отпустите еще! Не собираюсь же я удирать!
- Разговорчики! - Щелчок. - Вот так! Свободнее нельзя. А если будете применять усилия, они сами теснее возьмутся.
Во дворе обыкновенная полуторка. Забраться я, разумеется, не могу. Лейтенант угрюмо размышляет. Потом озарение, солдат приносит табуретку. Откидывает борт, меня поддерживают с двух сторон. Забираюсь на табуретку, потом ступаю выше. Как на эшафот. Сел спиной к кабине.
- Не прислоняйтесь! Браслеты сожмутся! Один из конвоиров рядом, другой напротив. Лейтенант сел к водителю.
Поехали…
Гляжу назад. Прощаюсь. Назад откатываются мутно-розовая аркада метро «Кропоткинская», нахохлившийся чугунный Гоголь, Арбат, темный столпник Тимирязев… Все откатывается назад, назад в только что - вот-вот - мигнувшее мгновенье, во вчера, когда еще ходил, куда хотел, когда мог прийти домой.
Вижу дома, в которых живут знакомые и незнакомыме «вольные» - вольные люди! Они и не знают, как они счастливы… Бульвары: серая пряжа деревьев и кустов чернеет - уже смеркается, - разматывается назад, назад.
Пушкин потупился над головой конвоира, темнолицего, раскосого - казах, должно быть, - равнодушного. Голоса людей, гудки, шумы машин. Все назад, назад…
На повороте толчок откидывает к стене. И сразу щелчок, железная боль стискивает запястья. Не могу удержать кряхтенья, стона.
Конвоир, который рядом, белобрысый, безбровый, сердито испуган:
- Ты чего? Чего?
- Наручники зажало. Отпусти.
- Нельзя. Ключ у лейтенанта. Молчи! Терпи! Скоро приедем.
Боль вгрызается вверх до локтя. Боюсь пошевельнуться, судорожно напрягаю ногу… Опять поворот. Слава Богу, без толчка, и, кажется, боль чуть слабее, но правая кисть затекает.
- Сидите аккуратно. Вам же лучше.
Въехали на улицу Чехова. Значит, в Бутырки. Хорошо! Теперь уже недалеко. Остановились. Должно быть, пробка или стоянка троллейбуса. Пьяный в черном треухе пытается лезть.
- Подвезите, солдаты… Мне на Савеловский.
Оба конвоира вскочили, отдирают его руки от борта.
- Нельзя… Нельзя.
- А чего нельзя? Порожняк же… Ага, арестованного везете. Еврей. Это хорошо, значит, их тоже арестовывают.
Он тяжело спрыгнул. Еще что-то галдит вслед. Какой проницательный. Под надвинутой шапкой угадал. По носу? По гримасе боли?
Наконец заворачиваем. Опять толчок и новый зажим наручников. Кусаю губы.
Медленно вкатываемся в знакомый серый двор. Второй двор. Затылком, через кабину чую приближение тех самых высоких дверей, темного портала. Слышу, как лейтенант выходит. Кричу:
- Снимите наручники! Ведь калечите!
- Ладно, ладно, уже приехали.
- Сними наручники! - Ору яростно, до визга. - Палач!… твою мать. Палач, будь ты проклят!
Конвоиры молчат. Лейтенант поворачивается. Тупо смотрит.
- Разговорчики! За такие выражения знаете что?
Но он не злился, он уже выполнил задание, доставил арестованного и теперь был в «чужом хозяйстве». Легко, одним прыжком забрался в кузов. Спортсмен. Расщелкивает. Вытягиваю руки. Боль тупеет, медленно сползает вниз от локтей, пульсируя саднит в запястьях. Правой кисти почти не чувствую, затекла и кажется подушечно опухшей. Начинает покалывать. Шевелю пальцами. Слушаются.
- Ну вот. А кричать, выражаться не положено. Мы действуем по инструкции. А вы - «палач»… Конвой надо уважать.
Гляжу в безмятежно светлые, серьезные глаза лейтенанта, и мерещится, что где-то там на глубине, на самых донцах этих глаз или еще глубже теплится не мысль, нет, а просто обида или жалость. Но все-таки не злоба.
- Уважать?! Уважать нельзя по инструкции. Уважение надо заслужить, лейтенант. Вы еще молодой человек. Я старше вас по годам и по званию. А вы меня так мучите. Не может быть в советской стране такой инструкции, чтоб мучить.
- Ладно! Ладно! Разговорчики - не положено! Давайте, проходите!
И я прошел в знакомый бутырский «вокзал». И смотрители, кажется, знакомые. И опять Бутырки - избавление; после холодного подвала, после стыдной пытки браслетами.
«Санаторий Бутюр». И теперь я знаю все, что будет дальше, привычный, будничный порядок: шмон - баня - камера - поверка - оправка - пайка - сахарок и кипяток - прогулка. Разговоры: судьбы и судьбы. Книжки - передачи - шахматы - козел - баланда… Опять и опять разговоры и судьбы. Вечерняя каша. Вечерняя поверка. И ожидание… Ожидание. Ночами и днями ожидание…
В бутырской приемной канцелярии, где заполняют карточки новоприбывших, серолицый капитан сказал:
- Повторный? Был оправдательный приговор? Ну, значит, ошиблись! Поправят!
Он не злорадствовал и, видимо, не был ни ожесточенным, ни фанатично-истовым тюремщиком. Я вспомнил прокурора Мишу: «58-ю нужно дожимать». Оправдание было аномалией, вывихом естественного порядка. Бутырский капитан испытывал простое удовлетворение. Вывих вправят.
- А я верю, что буду опять оправдан!
- Ну что ж, верьте, верьте…
Бокс рядом с тем, из которого выходил на волю. Сколько же времени прошло? 72 или 73 дня. И словно бы только вчера. PI словно в другой жизни.
Интермедия кончилась.
Часть седьмая
ТОРЖЕСТВО ПРАВОСУДИЯ
Глава тридцать пятая
ОПЯТЬ БУТЫРКИ. ОПЯТЬ ТРИБУНАЛ
После бани меня повели в новый спецкорпус. Бело-синие стены, синие металлические лестницы, синие «палубные» галереи с железными перилами и синие железные сетки между этажами. В большой каптерке выдали не только матрац и кружку, но еще и одеяло, постельное белье и даже нательное. Бутырки стали богаче.
Камера небольшая, три отдельные койки, окно под самым потолком, мутные стекла, направленные на металлические сетки и хитрые створчатые форточки, - едва-едва можно увидеть полоску неба, - пол из прессованной древесной массы, гладкий, глянцевый.
С койки слева поднялась голова, замотанная полотенцем:
- Пошальства… Папирос ест?… Табак? Курит?… Битте, пошальста…
Услышав в ответ немецкую речь и увидев пачку папирос, спрашивавший торопливо выбрался из-под одеяла, снял полотенце-чалму и, придерживая кальсоны, представился: