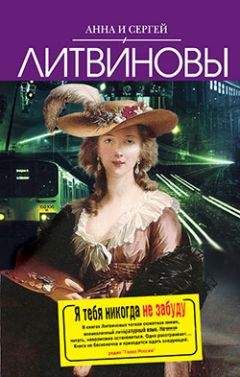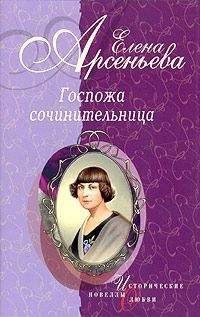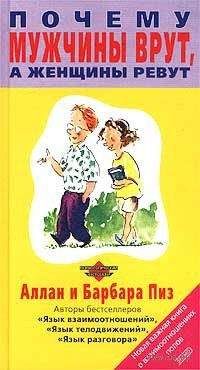Зинаида Гиппиус - Язвительные заметки о Царе, Сталине и муже
«Мир искусства» был первым в России журналом эстетическим — в хорошем смысле. Он начал необходимую борьбу за возрождение пластических искусств в России. Возрождение литературы, даже как словесное искусство, не входило непосредственно в его задачу. Но при широте взглядов новаторов-создателей журнала не могла остаться в стороне и новая литература. Отсюда наша близость к этому кружку и его журналу.
Мы в нем пользовались непривычной нам свободой. Не говоря о стихах, я помню две мои статьи, которые совершенно не подходили к главной задаче журнала (что признавалось и мною, и редакцией), были, однако, там напечатаны.
Журнал тогда был в расцвете: Дягилев действовал с обычной энергией: вел журнал (сам в нем почти никогда не писал, зная, вероятно, что это не «его» дело), устраивал попутно и всякие выставки, очень удачные. Лишнее, думаю, упоминать, что о «балетах» тогда еще речи не было, это явилось у Дягилева гораздо позже.
Конечно, вопросы, которые главным образом занимали в последние годы века Д. С. и о которых осенью 1899 года, перед годом нашего отсутствия из Петербурга, Д. С. говорил с людьми, дружественно к нему относящимися, между прочим — и с людьми дягилевского кружка, — не были главными для них, и менее всего для самого Дягилева. Но для того, кто мог бы знать хоть немного общее положение культурного русского слоя в эти годы, было бы понятно, что все так называемые «новые» группировки не могли быть чужды друг другу. Отсюда близость кружков, естественное скрещиванье путей, — хотя бы на краткое мгновенье, за которым шла часто и перегруппировка, и вливанье во все группы новых людей.
Идея петербургских Религиозно-философских собраний (о них я далее буду писать подробно) родилась, конечно, не в кружке «Мира искусства», хотя в журнале, задолго до их открытия, была напечатана моя статья о смысле и желательности таких собраний. Но не только они, а даже то, что они привели нас к созданью собственного журнала, задачи которого весьма отличались от задач «Мира искусства», не послужило к разрыву с «дягилевским» кружком, только ослабило наше сотрудничество в журнале.
Как ни сплочен был этот кружок, но люди-то, тесно Дягилева окружавшие, были все-таки разные (что я уже заметила выше). Большинство, конечно, подходило Дягилеву, гармонировало с его идеями и задачами: редкая сплоченность не могла же объясняться только диктаторскими свойствами Дягилева. А сплоченность — действительно редкая: ведь даже на те собеседованья, осенью 99 года, когда поднялись впервые разговоры о религии и христианстве в частности, кружок являлся почти в полном составе. Тоже было и тогда, когда открылись Собрания. Там можно было, положим, встретить всех. Но Дягилеву, кажется, менее других было свойственно интересоваться тем, что делалось в зале Собраний, — однако он там бывал вместе с другими своими. не знаю, как сказать точнее: друзьями? приближенными? содеятелями? — все равно.
Конечно, ни Бакст (лично мы с ним очень дружили), ни Нувель (тоже наш приятель) не могли тоже иметь много связи с занимавшими нас вопросами: но Ал. Бенуа, например, считавшийся и считающийся только «эстетом», отнюдь не был тогда этим вопросам чужд, — стоит взглянуть в старый наш журнал. А ближайший друг и помощник Дягилева, его двоюродный брат Д. В. Философов, сразу проявил самый живой интерес к этим вопросам и даже принимал участие в хлопотах по открытию собраний.
Мы этому, конечно, радовались. На кружок в целом, и на главу его — Дягилева — никто и не возлагал надежд в этом смысле. Слишком он был совершенен. Все диктаторы более или менее совершенны, — как предназначенные. A Дягилев, повторяю, был прирожденный диктатор, фюрер, вождь.
Я отнюдь не отрицаю диктаторов и диктатуры, напротив, я признаю, что диктатор может быть явлением провиденциальным, спасительным, во всяком случае — положительным (все равно в какой области и какие мы возьмем «масштабы»). Это не мешает нам, однако, относиться к диктатуре и ко всякому диктатору с каким-то внутренним отталкиванием. Дело, должно быть, просто во «власти» одного над многими. Отсюда получаются нередко превосходные результаты, особенно если диктатор действительно талантлив. Их нельзя не признавать, не ценить. Но внутреннего отношения к диктатору это не меняет.
Такое отталкивание было у многих и у нас от прирожденного диктатора — Дягилева.[13] Без всякой враждебности (ведь мы смотрели со стороны), с признанием всех его талантов и заслуг, с уверенностью в его дальнейших успехах, но — со всегдашним чувством чего-то в нем неприемлемого: в его барских манерах, в интонации голоса, в плотной фигуре, в скорее красивом тогда — полном, розовом лице с низким лбом, с белой прядью над ним, на круглой черноволосой голове. Говорили, что он капризен и упрям. Но я не так вижу его. Он был человек по-своему сильный, упорный в своих желаниях и — что требуется для их достижения — совершенно в себе уверенный. Если эта самоуверенность слишком бросалась в глаза, — тут уж дело ума, в котором ему, при его хорошей образованности, не было никакой нужды, его заменяла разнородная талантливость и большая интуиция.
Работа Д. С. не мешала нам сходиться в частные кружки для разговоров на ту же тему, как осенью 99 года, перед нашим путешествием. Приблизительно и участники их были те же. Но мне показалось (и Д. С. согласился, да и сам это заметил), что разговоры эти мало-помалу вырождаются в беспощадные споры, не очень даже оживленные, и что каждый из тех, кого мы считали «близкими», думает больше о чем-то своем, личном, нежели о вопросе общем. Один из них, помнится, любил отвечать на те или другие предложения откровенным: «Да, но у меня свои задачи».
Особенно чувствовался тут разлад с членами «дягилевского кружка». Поэтому я предложила Д. С. поговорить отдельно с Философовым, как с несомненно более к нам близким, и устроить иногда разговоры только втроем. Это имело успех, и, помимо вечеров, где собирались и другие, мы виделись в определенный вечер у нас. У него, оказывается, у самого уже была эта мысль.
Так шла зима. Собственно с «Миром искусства» у нас никакого охлаждения не было. Мы бывали там каждую «среду», где так же было интересно и весело. Мы с Перцовым часто увлекались в то время «домашними» пародиями, в прозе и в стихах. В них мы не щадили и самих себя, поэтому некому было обижаться. Да это вообще не было принято. В том же «Мире искусства» имелась налево от передней маленькая комната, увешанная карикатурами «своих» художников на «своих же», т. е. на участников и сотрудников. И всех это лишь забавляло.
Возвращаясь осенью 1901 г. с прогулки, я спросила Д. С.:
— Что ты думаешь делать эту зиму? Продолжать вот эти наши беседы?