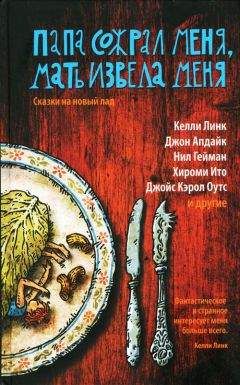Марина Цветаева - Автобиографическая проза
Ближайшим сотрудником моего отца была моя мать, Мария Александровна Цветаева, рожденная Мейн. Она вела всю его обширную иностранную переписку и, часто, заочным красноречием своим, какой-то особой грацией шутки или лести (с французом), строкой из поэта (с англичанином), каким-нибудь вопросом о детях и саде (с немцем) — той человеческой нотой в деловом письме, личной — в официальном, иногда же просто удачным словесным оборотом, сразу добивалась того, чего бы только с трудом и совсем иначе добился мой отец. Главной же тайной ее успеха были, конечно, не словесные обороты, которые есть только слуги, а тот сердечный жар, без которого словесный дар — ничто. И, говоря о ее помощи отцу, я прежде всего говорю о неослабности ее духовного участия, чуде женской причастности, вхождения во все и выхождения из всего — победителем. Помогать музею было прежде всего духовно помогать отцу: верить в него, а когда нужно, и за него. Так, от дверных ручек упирающегося жертвователя до завитков колонн, музей — весь стоит на женском участии. Это я, детский свидетель тех лет, должна сказать, ибо за меня этого не скажет (ибо так глубоко не знает) — никто. Когда она в 1902 году заболела туберкулезом и выехала с младшими детьми за границу, ее участие не только не ослабло, но еще усугубилось — всей силой тоски. Из Москвы то в генуэзское Нерви, то в Лозанну, то во Фрейбург шли подробные отчеты о каждом вершковом приросте ширящегося и высящегося музея. (Так родители, радуясь, отмечают рост ребенка на двери и в дневнике.) И такие же из Нерви, Лозанны и т. д. любовные опросные листы. Когда дозволяло здоровье, верней болезнь, она, по поручению отца, ездила по старым городкам Германии, с которой был особенно связан мой отец, выбирая и направляя, торопя и горяча, добиваясь и сбавок и улыбок. (А у делового немца добиться улыбки…) Не забывали и мы с Асей нашего гигантского младшего брата. В каждом письме — то из Лозанны, то из Фрейбурга, после описания какого-нибудь tour du lac[83] или восхождения на очередной шварцвальдский холм, приписка, сначала, по малолетству, совсем глупая: „Как Васька? Как музей?“ — но со временем и более просвещенные. К одиннадцати годам и я втянулась в работу, а именно, когда мы все съезжались, писала отцу его немецкие письма. (Отец языки знал отлично, но, как самоучка, и пиша и говоря, именно переводил с русского. Кроме итальянского, который знал как родной и на котором долгие годы молодости читал в Болонском университете.) Как сейчас помню „Hildesheimer Silberfund“[84] и „Professor Freu“. Зато какое сияние гордости, когда в ответном письме за таким-то № в конце приписка: „Grьssen Sie mir ihr liebenswuerdiges und pflichttreues Tцchterlein“.[85]
Немецкую переписку отца я вела до самой его кончины (1913 г.).
Теперь расскажу о страшном его и матери, всех нас, горе, когда зимой 1904–1905 года сгорела часть коллекций музея (очевидно, та деревянная скульптура, которую и заказывали в Германии). Мне кажется, это было на Рождество, потому что отец был с нами во Фрейбурге. Телеграмма. Отец молча передает матери. Помню ее задохнувшийся, захлебнувшийся голос, без слов, кажется: „А-ах!“ И отцовское — она тогда была уже очень больна — умиротворяющее, смиренное, бесконечно-разбитое: „Ничего. Даст Бог. Как-нибудь“. (Телеграмма, сгоряча, была: музей горит.) И его безмолвные слезы, от которых мы с Асей, никогда не видевшие его плачущим, в каком-то ужасе отвернулись.
Мать до последней секунды помнила музей и, умирая, последним голосом, из последних легких пожелала отцу счастливого завершения его (да и ее!) детища. Думаю, что не одних нас, выросшими, видела она предсмертным оком.
Говоря о матери, не могу не упомянуть ее отца, моего деда, Александра Даниловича Мейна, еще до старушкиных тысяч, до клейновского плана, до всякой зримости и осязаемости, в отцовскую мечту — поверившего, его в ней, уже совсем больным, неустанно поддерживавшего и оставившего на музей часть своего состояния. Так что спокойно могу сказать, что по-настоящему заложен был музей в доме моего деда, А. Д. Мейна, в Неопалимовском переулке, на Москве-реке. Все они умерли, и я должна сказать.
Август 1933
ЛАВРОВЫЙ ВЕНОК
(Памяти проф. И. В. Цветаева)
Года за два до открытия музея отцу предложили переехать на казенную директорскую квартиру, только что отстроенную. „Подумайте, Иван Владимирович, — соблазняла наша старая экономка Олимпиевна, — просторная, покойная, все комнаты в ряд, кухня тут же — и через двор носить не нужно, электричество и ламп наливать не нужно, и ванна — и в баню ходить не нужно — все под рукой… А этот — сдать…“ — „Сдать, сдать! — с неожиданным раздражением отозвался отец. — Я всю жизнь провел на высокой ноте! — И, уже самому себе, отъединенно: — В этом доме родились все мои дети… Сам тополя сажал… — И совсем уже тихо, почти неслышно, а для экономки и вовсе непонятно: Я на это дело положил четырнадцать лет жизни… Зачем мне электричество?! А квартиру отдать семейным служащим, как раз четыре квартирки выйдут, отличные… Две комнаты и по кухонке…“ — Так и было сделано.
В эту же весну отец из Германии привез от себя музею — очередной подарок: машинку для стрижки газона. — „А таможне не платил, ни-ни. Упаковал ее в ящичек, сверху заложил книжками и поставил в ноги. — А это что у вас здесь? — Это? — Греческие книжки. — Ну, видят — профессор, человек пожилой, одет скромно, врать не будет. Что такому и возить, как не греческие книжки! Не парфюмерию же. Так и провез без пошлины. Помилуйте! Да на пошлину вторую такую стрижку купить можно“. (Никогда не забуду, как он на самосеянном газоне перед музеем — первый — ревниво, почтительно, старательно и неумело, ее пробовал.) Думаю, что это был единственный за жизнь противозаконный поступок моего отца. Впрочем, он для музея был готов на несравненно — большее, во всяком случае — дольшее. Сидит он у какой-нибудь москворецкой купчихи, потягивает чаек и улещает: — „Таким-то образом, матушка, всем и радость, и польза будет. А что племянник? Племянник все равно промотает“. Старушка: — „Неужели?“ — „Как Бог свят — промотает. Пропьет или в карты пропустит“. Старушка, упавшим голосом: — „Пропустит“. Отец: — „А покойник их, небось, по полтиннику собирал. Племянник пусть сам наработает. Я ведь тоже в детстве босиком бегал…“ Помню, что таким способом, только на этот раз у старушки высокопоставленной, отец, в конце очень долгих концов, отстоял для музея прекрасный подлинник: мраморную голову императора Тита, которая и поныне украшает музей.
Отношение к строящемуся музею было разное. Помню известного московского педагога Вахтерова, в 1909 году говорившего мне, тогда — гимназистке: — „Зачем музей? Сейчас нужны лаборатории, а не музеи, родильные дома, а не музеи, городские школы, а не музеи. Ничего! Пусть строят! Придет революция, и мы, вместо всех этих статуй, поставим койки. И парты. А что строят — ничего. Стены нам пригодятся“. В общем, интеллигенция и молодежь относились равнодушно, и отец в своем деле (как каждый любящий — в своем!) был одинок. Но он этого не замечал — или миновал. Зато, как же он радовался малейшему сочувствию, малейшему „музейному“ вопросу, как охотно сам путеводил — шестидесятипятилетний старик и безумно занятый человек — наших сверстников, мальчишек и девчонок, сам показывая и рассказывая, обстоятельно отвечая на самые наивные вопросы. Убеждена, что не более ревностно — раз от всей души, значит, больше нельзя! — он потом показывал музей верхам России. Разница между путеводимыми тонула, и даже сгорала, в неизменности вдохновения. Усилить это вдохновение могло только чужое вдохновение. Оно редко — везде.