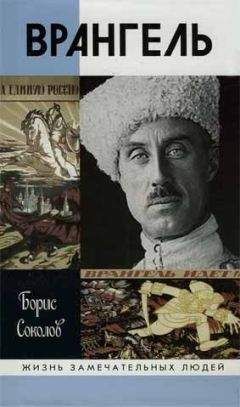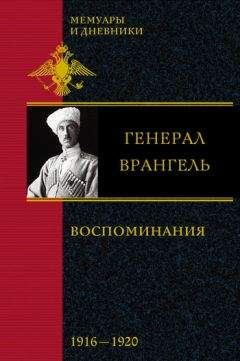Борис Александровский - Из пережитого в чужих краях. Воспоминания и думы бывшего эмигранта
Официанткам тоже дремать не придется — завтра полковой праздник лейб-гвардии Преображенского полка. Очередная панихида по «в бозе почивающим» уже заказана, а деньги за банкет на 60 персон уже внесены.
Послезавтра, здесь же, в 4 часа дня, очередная «чашка чаю» бывших воспитанниц московского Екатерининского института, а в 8 часов вечера очередная встреча господ офицеров лейб-гусарского Сумского полка.
Не утомляйте, читатель, вашего внимания дальнейшим изучением этого раздела парижской хроники жизни эмигрантского царства-государства. Панихиды, молебны, полковые праздники, годовщины, чашки чаю, банкеты в Париже, Лионе, в городах Лазурного берега идут длинной чередой. Они как две капли воды похожи друг на друга.
Вы уже составили себе о них некоторое представление.
Перейдем к другим разделам той же хроники.
Сегодня, в 8 часов вечера, в боковом зале Русского народного университета на улице Севр очередное занятие курсов кройки и шитья. Просят не опаздывать. В главном зале — лекция доктора Чекунова «О вреде курения». Вход 2 франка. Завтра — начало второго цикла курса лекций «О пчеловодстве». Не внесшие целиком установленную плату к занятиям не допускаются. О дате очередного семинара по экономическим наукам будет объявлено дополнительно.
Читатель широко раскрывает глаза от удивления. Как?
В «русском Париже» кроме ресторанов и лавок был свой университет? А если и был, то при чем тут кройка и шитье?
Университета, как обычно это слово понимается, конечно, не было. «Народный университет» — понятие особое. Когда-то, за несколько лет до первой мировой войны, на средства богача А. Л. Шанявского в Москве было основано первое в России учреждение, популяризовавшее в самых широких кругах населения знания по всем отраслям науки и техники путем лекций и семинаров. Называлось оно «Народный университет». Для него было выстроено грандиозное по тем временам здание на Миусской площади — с десятками аудиторий и комнат, с мраморными колоннами и лестницами внутри. Никакого образовательного ценза от слушателей не требовалось, никаких факультетов не было и никакие дипломы не выдавались.
Каждый выбирал себе тот цикл лекций, который его интересовал; каждый пополнял свое образование как хотел, и как умел.
По образцу этого популярного в свое время «университета Шанявского» престарелый петроградский общественный деятель Дмитриев и ученый-историк Одинец (в 1948 году вернувшийся на родину) основали в Париже вышеупомянутый «Народный университет», просуществовавший много лет.
Своего отдельного здания, а тем более мраморных колонн и мраморных лестниц он, конечно, не имел. Находился он на узкой и извилистой улице Севр, на стыке 6-го округа и 15-го («русского»), во дворе, на втором этаже старого, прокопченного здания, в котором сдавались в наем частные квартиры. Узкая деревянная лестница вела в помещение этого университета. Аудиторий в нем не было, в самую большую лекционную комнату можно было с трудом втиснуть 50–60 человек. Но посещался он эмигрантами охотно, так как давал довольно много прикладных знаний, оказавшихся полезными в тяжелой борьбе за существование.
Продолжая обозрение столбцов парижской и провинциальной хроники эмигрантской жизни, вы, конечно, остановитесь на сообщении, что очередная экскурсия в Луврский музей под руководством Жихаревой состоится завтра, в воскресенье, такого-то числа. Сбор в одиннадцать часов у входа в станцию метро «Тюильри». Плата за участие в экскурсии 3 франка.
Пойдемте и мы на эту экскурсию.
Без четверти одиннадцать. Уже маячит под зонтом на фоне дождливого туманного парижского дня пожилая женщина. Это — экскурсовод. Постоянной службы у нее нет.
От того, сколько франков соберет она сегодня и в последующие воскресные дни, зависит очень многое в ее жизни.
Каждые две минуты мрачное, зияющее в тротуаре отверстие выхода из метро выплескивает на поверхность земли сотни парижан, только что совершивших переезд и переход по узким цементным коридорам и лестницам, заплеванным и покрытым окурками, билетами, обрывками газет.
Одиннадцать часов. Ни одного экскурсанта. Четверть двенадцатого. Никого.
Экскурсовод с тоской смотрит на новые людские волны, выкатывающиеся из трущобной глубины «коридоров для крыс», как метко охарактеризовал парижское метро в беседе со мною один французский промышленник.
Наконец в половине двенадцатого около экскурсовода вырастает робко озирающаяся эмигрантская фигура.
— Не скажете ли мне, где здесь сбор на экскурсию?
— Здесь…
Они решают подождать еще немного…
Без четверти двенадцать из недр метро появляется еще один экскурсант. Больше ждать они не будут.
Экскурсовод получает с обоих по 3 франка. Обед ей обеспечен. Все трое направляются в музей. Здесь экскурсовод покажет своей «аудитории» из двух человек много интересного: и египетские, и ассирийские древности, и искусство Китая, и мебель эпохи Людовика XIV, и полотна французских живописцев барбизонской школы. Они будут стоять перед шедеврами Рафаэля, Корреджо, Веласкеса, Рубенса, Рембрандта, любоваться японским фарфором, персидскими миниатюрами и индийскими тканями. Мы не будем их сопровождать.
Тем временем мы лучше попытаемся выяснить, как могло случиться, что подавляющее большинство русских эмигрантов, прожив четверть века рядом с сокровищницей мирового искусства всех эпох и всех народов, расположенной на территории города Парижа, прошло мимо этой сокровищницы, ни разу в нее не заглянув? Чем объясняется этот индифферентизм? Почему в парижских музеях лишь изредка можно было увидеть эмигрантов?
Я знал сотни эмигрантов, людей, казалось бы, самой высокой культуры, которые, прожив в Париже 25 и более лет, не удосужились побывать ни разу ни в Версальском дворце, архитектурном чуде XVII века, ни в Луврском музее — первом в мире по богатству коллекций, ни в других художественных и исторических музеях; людей, которые за этот срок не совершили ни одной прогулки по городу с целью осмотра его архитектурных шедевров и исторических памятников. Мне приходилось часто и подолгу беседовать с эмигрантами, не прочитавшими за целую четверть века ни одной французской книги и не побывавшими ни разу ни в одном из парижских театров и ни на одной парижской художественной выставке.
Я много раз спрашивал этих людей о причинах такого непонятного безразличия. Их ответы можно суммировать примерно следующим образом: — Когда мы жили на берегах Невы, Москвы-реки, Днепра, Камы, Дона, мы бредили Парижем, его памятниками и храмами, его выставками, театрами, музеями, антиквариатом. Мы преклонялись перед Мольером, Виктором Гюго, Эмилем Золя и другими французскими литературными «богами». Нас тянуло на французский роман, живопись импрессионистов и музыку Клода Дебюсси.