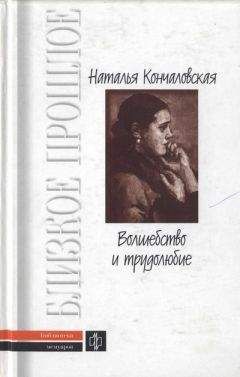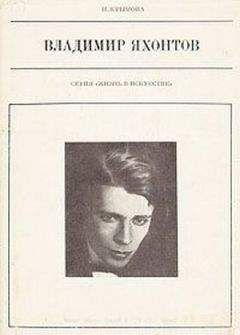Наталья Кончаловская - Дар бесценный
Одноэтажные окраинные домишки. Кое-где торчали между ними покрытые снежными шапками крыши колодцев.
«Недалеко ушли эти переулки от старой Руси», — думал Василий Иванович, щурясь на снежные шапки домиков, синеватые на теневой стороне, сверкающие на солнечной. Он спрыгнул с саней и пошел следом, глядя, как разваливается снег под полозьями.
Все это укладывалось в сознании и зрительной памяти вместе с восхищением, молодой бодростью и трепетом. Он шел за санями и улыбался двум парам глаз, зорко следивших, за ним из-под платков; девчонки вдруг присмирели, а только что щебетали, как снегири.
Объехав квартал, возница выбрался на Долгоруковскую и въехал во двор.
— Ну, вылезайте, килибрики! Приехали! — Василий Иванович вытащил девочек из розвальней. — Держи, хозяин. Спасибо тебе! — Он протянул мужику двугривенный.
Обрадованный возница приподнял шапчонку и лихо выехал за ворота.
Поднимались по черной лестнице. На стук открыла кухарка Феня. Она пришла к Суриковым вместо уехавшей в деревню Паши.
— Ба-а-а! Светы мои, что ж это вы по-черному-то? И в сене где-то извалялися! — запричитала она, отряхивая шубки о т сухих травинок.
— А мы катались! А мы в санях катались! — перебивая друг дружку, кричали девочки.
Не раздеваясь, Суриков вбежал в мастерскую, схватил этюдник, складной стульчик и выскочил на черный ход. Феня с недоумением слушала торопливые, удаляющиеся по лестнице шаги. Она еще не привыкла к странным проявлениям характера хозяина.
Колеи заворачивали на рыхлом снегу, нетронутые, свежие, глубокие. Василий Иванович раскинул стульчик, уселся с этюдником и начал писать. Дверь черного хода скрипнула: женщина, наспех укутанная в клетчатый полушалок, выскочила с мусорным ведром и, подобрав подол, кинулась было к мусорному ящику.
— Послушайте, голубушка… Нельзя ли вокруг обойти? Мне бы колею свежей сохранить, чтоб следов от ног не было… — взмолился Суриков.
Женщина с разбегу остановилась перед колеей, словно это была прорубь, а потом осторожно, на носках стала обходить ее кругом, косясь на странного жильца, рассевшегося во дворе.
Краски стыли на морозе, вязли на палитре, с трудом смешивались. Зимнее солнце быстро катилось за крышу. Синие, глубокие тени на снегу менялись, надо было торопиться.
Дверь снова скрипнула. Суриков обернулся. За ним, завернувшись в светло-синюю ротонду на беличьем меху, улыбаясь, стояла жена.
— А я за тобой, Васенька, завтракать пора. Все готово.
— Сейчас, Лилечка… Сейчас… — бормотал Суриков, составляя на палитре цвета. Руки без перчаток посинели, пальцы едва разгибались, с трудом удерживая кисть. Елизавета Августовна разглядывала этюд через плечо мужа.
— Смотри-ка, ведь пишешь снег, белый снег, а сколько у тебя на палитре разных красок! И черной, и красной, и несколько синих, и охра! Вот удивительно!
Она с любопытством и восхищением смотрела, как муж, сменив кисть и смешав черную, глянцевитую слоновую кость с чистой змейкой белил, закрутил серую массу и начал класть мазки на холст, сначала легко затеняя глубину колеи, потом, сменив кисть, он подмешал глубокого ультрамарина, синим углубил тень, и снежный гребень еще ярче засверкал над колеей. Но и гребень тоже не был чисто-белым, туда входили еще какие-то неуловимые для неискушенного глаза дополнительные цвета.
— Все зависит, Лиля, от того, когда и при каком освещении пишется снег, — словно про себя рассуждал Суриков, продолжая писать. — Он может быть и просто лиловым, и розовым, и синеватым, и грязно-серым. А чтобы он вообще был чистой нетронутости, только выпавший, надо ему зернистость и блеск придать. Фактуру. Одними белилами тут не управишься… Ох и замерз же я! — Василий Иванович начал быстро складывать кисти и убирать палитру. — Руки просто свело. Сейчас самая пора согреться; уж ты мне поднеси рябиновой!
Третий холст
Живая натура, задвинутая за раму! Вот как это должно быть. А кроме того, нужен точный расчет. Математически точный. Розвальни, на которых везут боярыню, должны убегать вглубь. Они катятся между людьми, окружающими этот поезд. Стало быть, на переднем плане фигуры должны быть крупные. Но если их поставить в рост, они загромоздят весь передний план и саму героиню. Значит, их надо усадить. Нищие и юродивые.
Старушку нищенку не трудно было найти — они везде сидели на папертях. А вот юродивого Василий Иванович искал долго. Бродя по рынкам, базарам, толкучкам, в гуще толпы он наблюдал группировки людей, всматривался в лица и в то, как врисовываются эти лица в общий воздушный тон. Какого цвета на морозе под открытым небом старые лица и какого молодые.
Однажды, толкаясь в воскресный день на Хитровом рынке, среди оборванцев, сбывавших по большей части краденый хлам, проходя мимо рядов грязных торговок, сидящих на котлах с похлебкой из требухи, Василий Иванович заметил какого-то чудака в отрепьях, топтавшегося возле бочки с солеными огурцами. Корча уморительные рожи, подскакивая, с прибаутками, он продавал огурцы, выбирая товар из хрустящего льдинками рассола грязными, посиневшими пальцами. «Череп-то, череп какой! Вот такой-то мне и нужен», — восхитился Василий Иванович, впившись глазами в продолговатую голову юродивого, перевязанную через уши засаленным платком. Сквозь рваную рубаху на его груди был виден огромный медный крест.
Суриков подошел к нему и стал уговаривать его позировать. Тот, не понимая, в чём дело, отшучивался, поясничал, хихикал; потом, узнав, что надо сидеть на снегу, отказался наотрез. Наконец Сурикову удалось соблазнить его трешкой. Оставив бочку с огурцами на попечение какой-то старушонки, торговавшей квасом, они отправились на Солянку в поисках извозчика. Юродивый шел впереди, болтая что-то несуразное и перескакивая через тумбы у каждой подворотни. Извозчик нашелся, и Василий Иванович привез чудака на Долгоруковскую. Во дворе дома Збука он постелил на снег сложенное вчетверо одеяло и усадил на него юродивого, с трудом уговорив его разуться. И только когда художник принес ему водки, тот растер себе ноги, да еще выпил для бодрости, и, окончательно развеселившись, начал позировать, все время что-то приговаривая и напевая псалмы вперемежку с озорными частушками.
Через час этюд был готов. Закоченевший «юродивый» поскорей вскочил на ноги, обулся в свои опорки, накинул рваный зипун, дотянул оставшуюся водку и, получив обещанную трешку, вышел за ворота. Остановив роскошного лихача, он тут же отдал ему эту трешницу и, усевшись в сани под медвежью полость, заорал на всю Долгоруковскую:
— На Хитровку-у-у! И-и-и-их!..