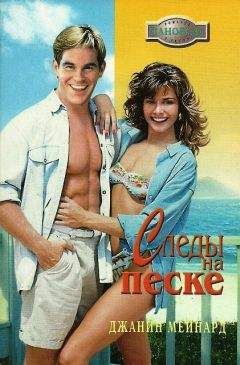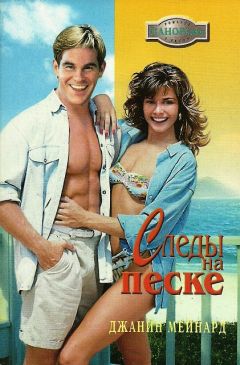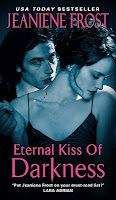Екатерина Мишаненкова - Анна Ахматова. Психоанализ монахини и блудницы
После Победы он вернулся в Ленинград, где в короткий срок окончил университет и защитил кандидатскую диссертацию. С 1949 г. служил в Этнографическом музее в Ленинграде в качестве старшего научного сотрудника.
Я перевернула конверт, из которого достала эти черновики, и только тогда заметила, что на нем тоже набросаны несколько строк – видимо, черновик какого-то стихотворения.
Узнала я, как опадают лица,
Как из-под век выглядывает страх,
Как клинописи жесткие страницы
Страдание выводит на щеках,
Как локоны из пепельных и черных
Серебряными делаются вдруг,
Улыбка вянет на губах покорных,
И в сухоньком смешке дрожит испуг.
И я молюсь не о себе одной,
А обо всех, кто там стоял со мною,
И в лютый холод, и в июльский зной,
Под красною ослепшею стеною.
Я дрожащими руками сложила черновики и убрала их обратно в конверт.
* * *Андрей все же вырвался с работы и приехал меня проводить. А потом позвонил мне на работу, чтобы узнать, как я добралась. Потом еще раз, и еще. Ни о чем серьезном не говорил, да и не до того было – после смерти Сталина начались события, которые затронули многих, и нас в том числе. Скоро я услышала, что выпустили Серейского, а с ним и других врачей, в психиатрических кругах робко заговорили о возможности отхода от физиологического учения Павлова, назревали перемены как в жизни всей страны, так и в науке, которой я занималась.
Через несколько недель Андрей, позвонив в очередной раз, вдруг спросил, не хочу ли я вернуться в Москву. На моей прежней работе вновь появилось свободное место, и он уже выяснил, что в Горьком мне не будут чинить препятствий и отпустят обратно, теперь у них есть и свои кадры, чтобы меня заменить.
Я замешкалась с ответом, но не потому, что не хотела назад в Москву, а потому, что не могла понять, что скрывается за этим вопросом. Андрей предлагает мне вернуться в Москву или… к нему? И если так, то готова ли я сама вернуться? Поэтому уклончиво сказала:
– Конечно, в Москве работа интереснее и по моей специальности…
– Отлично! – радостно сказал Андрей. – Тогда я передам, что ты не против, пусть посылают запрос о твоем возвращении, – и бросил трубку.
Я тоже положила трубку и надолго задумалась. В последнее время я все чаще вспоминала переписку Ахматовой, прочитанную за те три дня в Москве. И стихотворение на конверте, намертво отпечатавшееся в моей памяти. Как врачу мне хотелось бы поговорить с ней еще раз, кое о чем расспросить, понять, верны ли мои догадки.
Но вспоминала я ее письма не поэтому. Из разговоров с ней я узнала Ахматову-поэта, а в письмах я увидела человека, женщину – любившую, терявшую и страдавшую. И даже ее несгибаемый характер смирялся и склонялся, когда дело касалось ее близких. Хорошо быть гордой, но не тогда, когда речь идет о тех, кто тебе по-настоящему дорог. Ради того, кого любишь, гордостью можно и поступиться…
* * *Через два месяца, сдав все дела и распрощавшись с Горьким, я вернулась в Москву. Андрей встретил меня на платформе, и я ожидала, что он наконец скажет что-нибудь конкретное, предложит помириться, попросит прощения, а то все это время он строил совместные планы, но ни один из них не выходил за рамки дружеского сосуществования.
Но он вдруг неожиданно спросил:
– Помнишь моего друга Серегу Воронова?
Я удивленно ответила:
– Летчика, который тебе жизнь спас, когда вы на минное поле сели? Еще бы не помнить.
– Он погиб.
– Как?! Когда? – ахнула я.
– Недавно, в Жуковском. Он ведь после войны летчиком-испытателем стал. И вот… всю войну прошел, а тут… катастрофа, и…
– Мне очень жаль, – мягко сказала я, беря его за руку. Было видно, что ему и сочувствия хочется, и он не может рассказывать об этой катастрофе – наверняка Воронов испытывал какой-нибудь сверхсекретный самолет, о котором запрещено даже упоминать, как и обо всем, что с ним связано.
– У него сын остался, – не поднимая глаз, сказал Андрей.
– Помню его, он, кажется, тоже Сережа. – А еще я вспомнила, что Воронов был вдовцом, его жена умерла вскоре после войны от какой-то болезни. – Что же с ним теперь будет?
Андрей помялся – кажется, я последний раз видела его таким неуверенным больше двадцати лет назад, еще когда он мне предложение делал. А потом он вдруг перестал разглядывать свои ботинки и посмотрел мне в глаза.
– Давай его усыновим?
Я несколько секунд медлила. Это был прямой вопрос, подразумевавший очень многое – и восстановление нашего брака, и создание новой семьи с еще одним ребенком. Мелькнула мысль, что мог бы хоть прощения попросить. А с другой стороны – если он из всех женщин снова выбрал меня, это ведь уже многое значит.
И я ответила:
– Давай.
Эпилог
Ахматову мне довелось увидеть еще только один раз. После возвращения в Москву я несколько раз пыталась встретиться с ней – мне очень хотелось расспросить ее о некоторых событиях ее жизни, узнать, насколько верны были некоторые мои догадки. Мне казалось, что она согласилась бы ответить на мои вопросы. Хотя бы потому, что, судя по ее письмам, она всегда любила поговорить о себе. А еще потому, что я знала – ее беспокоят выдумки вокруг ее персоны, и она предпочла бы сама быть творцом своей биографии.
Но все как-то не складывалось, несмотря на то, что я порывалась пойти к ней в каждый свой приезд в Ленинград. Все время оказывалось, что она либо в Москве, либо в больнице, либо еще где-нибудь. Я знала, что она хлопотала о сыне, которого долго не хотели реабилитировать, потом слышала от Фаины Георгиевны, что она занимается переводами, много работает, не щадит свое здоровье. Потом ее начали печатать, и я наконец-то смогла прочитать ее зрелые стихотворения, написанные в годы вынужденного молчания. Правда, того, строки из которого я видела на конверте, среди них не было.
А потом, я даже не заметила, как это произошло, Ахматова из опального поэта вдруг стала настоящей королевой советской поэзии. Некоронованной, но от этого не менее значимой – по словам Андрея, имеющего много знакомых среди ленинградской богемы, все молодые многообещающие поэты крутились вокруг нее, словно свита вокруг королевы. В 1962 году даже разнесся слух, что ее выдвинули на Нобелевскую премию, и все окололитературные круги замерли в ожидании: дадут – не дадут, позволят ей принять премию или не позволят?
Нобелевскую премию ей все же не дали, хотя Андрей говорил, что в Союзе писателей все уверены, ей бы позволили ее принять. Но в 1964 году она получила что-то вроде утешительного приза – итальянскую литературную премию «Этна-Таормина».
А осенью 1965 года Андрей принес мне напечатанные на машинке стихи Ахматовой, которые до сих пор не были изданы, несмотря на то, что теперь она была фактически любимицей властей. Я с замиранием сердца прочитала заголовок: «Реквием»… Это были те самые стихи, отрывок из которых я прочитала на конверте с ее прошениями за сына.