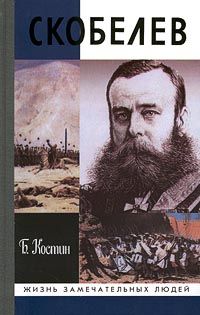Валерий Есипов - Шаламов
До бухты Нагаево через пролив Лаперуза и Охотское море каждый пароход добирался в среднем за пять-шесть дней, если не попадал в шторм. Шаламов не оставил упоминаний о шторме, и его морской этап можно считать относительно благополучным. Тем более что стоял еще август — теплый, с голубым небом, под Владивостоком, но становившийся все прохладнее с каждым днем приближения к Магадану.
Свои ощущения от первой встречи с Колымой Шаламов выразил в рассказе «Причал ада»: «Голые, безлесые, каменные зеленоватые сопки стояли прямо перед нами, и в прогалинах между ними у самых их подножий вились косматые грязносерые разорванные тучи. Будто клочья громадного одеяла прикрывали этот мрачный горный край. Помню хорошо: я был совершенно спокоен, готов на что угодно, но сердце забилось и сжалось невольно. И, отводя глаза, я подумал — нас привезли сюда умирать…»
Это предчувствие разделяли далеко не все. Большинство заключенных, в том числе осужденные по 58-й статье, думали, что их привезли сюда просто на тяжелую, необходимую государству работу — пусть в суровых условиях, но ограниченную сроком в три—пять лет. Они даже считали, что им повезло, потому что десятилетние и большие сроки стали назначаться с 1938 года, а они попали в «легкий» поток. Шаламов видел в этом одно из свойств национальной психологии: «По русскому обычаю, по свойству русского характера каждый, получивший пять лет, радуется — что не десять. А двадцать пять лет получит — пляшет от радости, что не расстреляли…» Но сам он думал по-другому и совсем не радовался. Перемены в стране не сулили ничего хорошего. Да и в Европе было неспокойно. Гитлер, нарушив Версальский договор, уже оккупировал Эльзас и Лотарингию, расправился с коммунистами, посадив их в свои концлагеря, а те из них, кто мог, бежали в СССР. Шаламов еще в эшелоне познакомился с некоторыми бывшими коминтерновцами. Они когда-то свято верили Сталину, а тот обрек их на Колыму. Один из них, немецкий коммунист Вебер, возвращавшийся из Москвы с переследствия, глядя, как безмятежно смеются соседи по теплушке, говорил: «Это дети. Они не знают, что их везут на физическое уничтожение». Шаламов запомнил эти слова, и они совпадали с его собственным мрачным и тревожным настроением.
Дату прибытия в Магадан — 14 августа 1937 года, а также пароход и номер его рейса — он тоже запомнил, потому что потом ему постоянно задавали и на поверках, и при переводах с одного лагерного пункта на другой одни и те же вопросы: когда прибыл, каким пароходом и рейсом? Так начальству было удобнее вести учет. Для Шаламова имело особое значение то, что он прибыл пятым с начала навигации рейсом «Кулу». Это давало возможность хотя бы приблизительно судить о гигантских масштабах развернувшегося на золотоносном Севере производства и общем количестве заключенных, направлявшихся в его лагеря. Но кроме «Кулу» трест «Дальстрой» имел еще три собственных, закупленных в Голландии и Англии, больших океанских парохода — «Джурма», «Николай Ежов» (переименованный вскоре в «Феликса Дзержинского») и «Дальстрой» (еще недавно называвшийся «Генрих Ягода»). На Колыму постоянно работало и множество более мелких судов Владивостокского порта. Они за навигацию — растягивавшуюся, благодаря ледоколам, с апреля по декабрь — делали по восемь и более рейсов. Но реальное количество перевозимых заключенных, а также состав грузов, среди которых особое место занимали наряду с горючим два стратегически важных продукта — взрывчатка для горных работ (аммонал, тол) и бочки спирта для начальства, конвоя и обслуги, — знал только узкий круг лиц. Все грузы числились как «военные», ведь изначально Дальстрой создавался как военизированная, закрытая, строго засекреченная организация, как «валютный цех» страны.
Шагая после долгой выгрузки с парохода в колонне заключенных — под дождем, в вечерних сумерках — через Магадан, Шаламов вряд ли думал о том, что где-то здесь живут и служат его старые вишерские знакомые — Майсурадзе, Филиппов, Васьков и сам Берзин. И о своей плохой шутке: «На Колыму — только с конвоем» — он, наверное, уже забыл. Хотелось только спать. И все заключенные свалились после дальней дороги, едва добравшись до нар магаданской пересылки. А потом их погрузили на машины и отправили по колымской трассе на дальний прииск «Партизан». Тут о встрече, даже случайной, с кем-то из берзинской команды можно было уже совсем не мечтать.
Между тем Шаламов застал на Колыме не только плоды деятельности бывших первостроителей Вишеры, но и их стиль работы с заключенными. Этот стиль был более либеральным, чем на Северном Урале начала 1930-х годов. Первое, что бросилось в глаза, — отсутствие колючей проволоки в лагерных пунктах на всем протяжении новой, почти 600-километровой колымской трассы! И режим был бесконвойным — на работу ходили сами. Кормили по тому же принципу, что и на Вишере: лучше работаешь, выполняешь нормы на 130 процентов — получаешь ударный паек: если на 100 процентов — общий, что означает 800 граммов хлеба и хороший «приварок» (горячие супы и каши). Рабочий день летом, во время промывочного сезона, — десять часов, в декабре — шесть, в январе — четыре.
Зимнего берзинского распорядка дня Шаламов уже не застал — в ноябре 1937-го на Колыме началась абсолютно другая, страшная и жестокая эпоха (та, которой и будут посвящены потом его главные рассказы). Но основные приметы предшествующей эпохи он запомнил. Новичкам сразу дали три дня отдыха, накормили, выдали новое зимнее обмундирование, крепкую обувь, для смазки которой — неслыханное дело! — стояла бочка рыбьего жира. Самым ярким символом этого времени для него стал пустующий лагерный медпункт — сюда никто не обращался. Все были здоровы или забывали про свои болезни и травмы, потому что — сезон, шло золото и шел заработок! Заключенные (вернее, «колымармейцы» — так их было принято называть при Берзине) по зарплате приравнивались к вольнонаемным и получали за летний сезон немалые деньги — от 800 до 1500 рублей, и могли ими свободно распоряжаться — отсылали в основном родственникам на материк (где средняя зарплата была 200—300 рублей), для обустройства в будущей свободной жизни. Ведь система зачетов для «ударников» по-прежнему существовала, и можно было значительно сократить свой срок, что было для большинства мощнейшим стимулом. Большинство это составляли, как и на Вишере, вчерашние крестьяне, «раскулаченные» и осужденные, как правило, по бытовым статьям — на политических зачеты не распространялись.
Шаламов никогда не употреблял слова «гуманизм» по отношению к системе Берзина — именно потому, что она была слишком прагматична и рассчитана на усредненного, привычного к физическому труду, выносливого русского (и не только русского) мужика, но никак не на интеллигента, а тем более — на троцкиста. Но и сам Берзин был недоволен тем, что к нему стали направлять массу совершенно негодных к тяжелой работе политических, среди которых было много пожилых, женщин, слабосильных и больных людей. Шаламов считал, что именно из-за этого недовольства Берзина сняли с поста директора Дальстроя, вызвали в Москву и расстреляли. На самом деле были и другие причины, и чтобы их лучше понять, а также разобраться в реальной истории лагерной Колымы, придется сделать небольшое отступление.