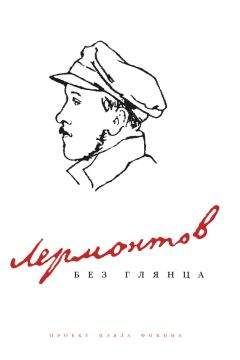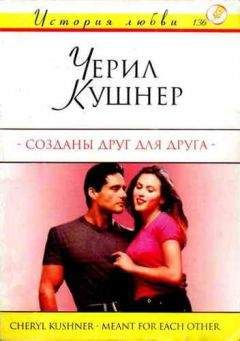Павел Фокин - Бунин без глянца
В то же время некоторых постоянных участников ‹…› «сред» он, несомненно, презирал, не стеснялся издеваться над их писаниями, трунил над их якобы народным одеянием, их поддевками, шелковыми косоворотками, сапогами с голенищами. Да, конечно, что могло быть общего у «утонченного» Бунина, в той обстановке — подлинного «денди» (с галстуком от Шанкса, как он любил спустя полвека прихвастнуть), с каким-нибудь Скитальцем с его «гуслями-мыслями», с скучнейшим Серафимовичем или другими «подмаксимками». ‹…› Но, как-никак, все они были постоянными посетителями «сред», и потому в глазах Бунина все-таки заслуживали какой-то доли снисхождения [8, 135].
Иван Алексеевич Бунин:
В Москве существовал ‹…› литературный кружок «Среда», собиравшийся каждую неделю в доме писателя Телешова, богатаго и радушного человека. Там мы читали друг другу свои писания, критиковали их, ужинали. Шаляпин был у нас нередким гостем, слушал чтения, — хотя терпеть не мог слушать, — иногда садился за рояль и, сам себе аккомпанируя, пел — то народныя русские песни, то французския шансонетки, то Блоху, то Марсельезу, то Дубинушку — и все так, что у иных «дух захватывало».
Раз, приехав на «Среду», он тотчас же сказал:
— Братцы, петь хочу!
Вызвал по телефону Рахманинова и ему сказал то же:
— Петь до смерти хочется! Возьми лихача и немедля приезжай. Будем петь всю ночь.
Было во всем этом, конечно, актерство. И все-таки легко представить себе, что это за вечер был — соединение Шаляпина и Рахманинова. Шаляпин в тот вечер довольно справедливо сказал:
— Это вам не Большой театр. Меня не там надо слушать, а вот на таких вечерах, рядом с Сережей [12, 116].
Борис Константинович Зайцев:
Москва богата улицами, переулками. Их имена порой причудливы. «Середа» применила этот словарь к шуточным кличкам своих сочленов. Телешов назывался «Угол Денежного и Большой Ленивки», Сергей Глаголь (за красноречие) «Брехов переулок», Гольцев — «Бабий городок», Андреев — «Ново-Проектированный». У Ивана Бунина прозвища не было, но его брата Юлия с отдаленных времен окрестили «Старогазетным» переулком [23, 282].
Николай Дмитриевич Телешов:
Прозвища давались только своим постоянным товарищам, и выбирать эти прозвища дозволялось только из действительных тогдашних названий московских улиц, площадей и переулков. Это называлось у нас «давать адреса». Делалось это открыто, то есть от прозванного не скрывался его «адрес», а объявлялся во всеуслышание и никогда за спиной.
Например, Н. Н. Златовратскому дан был сначала такой адрес: «Старые Триумфальные ворота», но потом переменили на «Патриаршие пруды» ‹…› Е. П. Гославский — за обычное безмолвие во время споров — «Большая Молчановка», а другой товарищ, Л. А. Хитрово, наоборот, за пристрастие к речам — «Самотека»; Горький ‹…› получил адрес знаменитой московской площади «Хитровка», покрытой ночлежками и притонами; Шаляпин был «Разгуляй». ‹…› Младший ‹…› Бунин, отчасти за свою худобу, отчасти за острословие, от которого иным приходилось солоно, назывался «Живодерка», а кроткий Белоусов — «Пречистенка»; А. С. Серафимович за свою лысину получил адрес «Кудрино»; В. В. Вересаев — за нерушимость взглядов — «Каменный мост»; Чириков — за высокий лоб — «Лобное место»; А. И. Куприн — за пристрастие к лошадям и цирку — «Конная площадь», а только что начавшему тогда Л. Н. Андрееву дали адрес «Большой Ново-Проектированный переулок», но его это не удовлетворило, и он просил дать ему возможность переменить адрес, или, как у нас называлось, «переехать» в другое место, хоть на «Ваганьково кладбище» [52, 50].
Борис Константинович Зайцев:
На «Среде» держались просто, дружественно; дух товарищеской благожелательности преобладал. И тогда даже, когда вещь корили, это делалось необидно. Вообще же это были московские, приветливые и «добрые» вечера. Вечера не бурные по духовной напряженности, несколько провинциальные, но хорошие своим гуманитарным тоном, воздухом ясным, дружелюбным (иногда очень уж покойным). Входя, многие целовались; большинство было на «ты» (что особенно любил Андреев); давали друг другу прозвища, похлопывали по плечам, смеялись, острили и в конце концов, по стародавнему обычаю Москвы, обильно ужинали.
Можно сказать: Москва старинная, хлебосольная и благодушная. Можно сказать и так, что писателю молодому хотелось больше молодости, возбуждения и новизны. Все же свой, великорусский, мягкий и воспитывающий воздух «Среда» имела [23, 254–255].
Вера Николаевна Муромцева-Бунина:
Я знала, что писатели любили и ценили «Среду» за дружескую атмосферу, неизменно царившую в ней, и за ту искренность, с которой велись в ней беседы. Каждый высказывал свое мнение совершенно свободно, и даже вопрос хмурого Тимковского, часто задаваемый после прослушанного рассказа: «Собственно, зачем это написано?» — не обижал авторов [35, 287–288].
Борис Константинович Зайцев:
На «Средах» слушали чужие вещи и свои читали. Леонида Андреева, милого Сергея Глаголя я не стеснялся.
Но вот Бунин именно меня «стеснял». И тогда уже была в нем строгость и зоркость художника, острое чувство слова, острая ненависть к излишеству. А время, обстановка как раз подталкивали писателя начинающего «запускать в небеса ананасом» (Белый). Но когда Бунин слушал, иные фразы застревали в горле [23, 279].
1917–1919. Окаянные дни
Иван Алексеевич Бунин. «Окаянные дни»:
Последний раз я был в Петербурге в начале апреля 17 года. В мире тогда уже произошло нечто невообразимое: брошена была на полный произвол судьбы — и не когда-нибудь, а во время величайшей мировой войны — величайшая на земле страна. Еще на три тысячи верст тянулись на западе окопы, но они уже стали простыми ямами: дело было кончено, и кончено такой чепухой, которой еще не бывало, ибо власть над этими тремя тысячами верст, над вооруженной ордой, в которую превращалась многомиллионная армия, уже переходила в руки «комиссаров» из журналистов вроде Соболя, Иорданского. Но не менее страшно было и на всем прочем пространстве России, где вдруг оборвалась громадная, веками налаженная жизнь и воцарилось какое-то недоуменное существование, беспричинная праздность и противоестественная свобода от всего, чем живо человеческое общество.
Я приехал в Петербург, вышел из вагона, пошел по вокзалу: здесь, в Петербурге, было как будто еще страшнее, чем в Москве, как будто еще больше народа, совершенно не знающего, что ему делать, и совершенно бессмысленно шатавшегося по всем вокзальным помещениям. Я вышел на крыльцо, чтобы взять извозчика: извозчик тоже не знал, что ему делать, — везти или не везти, — и не знал, какую назначить цену.