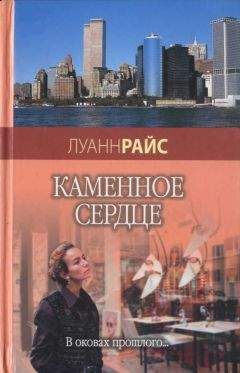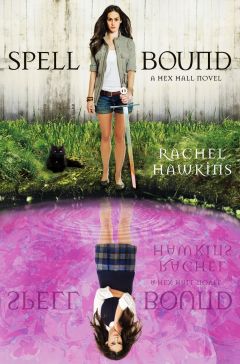Мария Белкина - Скрещение судеб
«На это я ответила — правдой всего существа. Что нам не по дороге: что моя дорога — и ко мне дорога — уединенная. И все о Монпарнасе. И все о душевной немощи, с которой мне нечего делать.
Вы, в открытке, дорогая Анна Антоновна, спрашиваете: — м. б. большое счастье?
И, задумчиво, отвечу: — Да. Мне поверилось, что я кому-то — как хлеб — нужна. А оказалось — не хлеб нужен, а пепельница с окурками: не я — а Адамович и Comp.
— Горько. — Глупо. — Жалко».
И печатая стихи, которые писались в то лето, и озаглавив их «Стихи сироте», она не без издевки над собой ставит эпиграфом:
Шел по улице малютка,
Посинел и весь дрожал.
Шла по улице старушка,
Пожалела сироту…
«всю жизнь напролет пролюбила не тех… Из равных себе по силе я встретила только Рильке и Пастернака. Одного — письменно, за полгода до его смерти, другого — незримо. О, не только по силе поэтической. По силе всей + силе поэтической (словесной, творческой)»…
Я — die Liebende, nicht — die Geliebte![51]
И с предельной откровенностью и даже жестокостью к себе, на которую не рискнула бы ни одна женщина в мире, она признается мужчине, которого любит, — пишет Борису Леонидовичу: «Я им не нравлюсь, у них нюх. Я не нравлюсь полу. Пусть в твоих глазах я теряю, мною завораживались, в меня почти не влюблялись. Ни одного выстрела в лоб — оцени.
Стреляться из-за Психеи! Да ведь ее никогда не было (особая форма бессмертия). Стреляются из-за хозяйки дома, не из-за гостьи…»
Психея и Ева, и вечный спор — душа и тело. Она — Психея, и отсюда ее неистребимые ненависть и презрение к Еве, которую все любят и «от которой во мне нет ничего. А от Психеи — все… Я с ней — очевидно, хозяйкой дома — незнакома…» Но это же опять одно из многих противоречий Марины Ивановны. В ней уживаются и Ева и Психея, сосуществуют, споря и ненавидя друг друга. Психея побеждает, да, но Ева живет своей обыденной и повседневной жизнью. Тоскует по любви Психея или Ева тоже? И разговор все время о Психее, быть может, из-за гордыни — ибо Еву в ней не замечают…
«…Все такие разумные люди вокруг, почтительные, я для них поэт, т. е. некоторая несомненность, с к-ой считаются. Никому в голову не приходит — любить!
Всю жизнь «меня» любили: переписывали, цитировали, берегли мои записи (автографы), а меня — так мало любили, так — вяло.
Моя надоба от человека — любовь. Моя любовь и, если уже будет такое чудо, его любовь, но это — как чудо, в чудном, чудесном порядке чуда…»
Но чудо это свершается столь редко! И дружбы быстро разрушаются, любови быстро гаснут. И снова она в отчаянии восклицает: «Может быть, я долгой любви не заслуживаю, есть что-то — нужно думать — во мне — что все мои отношения рвет. Ничто не уцелевает. Или — век не тот: не дружб».
«…Придя в мир, сразу избрала себе любить другого…», но любит ли она этого другого, умеет ли любить? Или она просто любит любить. Любит свою любовь?! Ведь, уносясь в полете, она даже забывает иной раз оглянуться, — поспевает ли он за ней, или отстал, или и вовсе не собирался поспевать! В томах ее писем (когда будут все изданы, это действительно будут тома!), которые она писала тем, кем увлекалась, главное действующее лицо — любовь, ее любовь, она сама! Они — их, в общем-то, и нет. Все эти письма — единый трактат о любви, разбитый лишь на главы, и в подзаголовке их имена, но если имена убрать и пронумеровать главы, то, в общем-то, мало что изменится, ибо это исследование своей любви, любви к мужчине, любви к женщине, любви-дружбы, любви-страсти. И главное — желание потратить свою душу и невозможность этого…
Когда-то она писала Борису Леонидовичу про его талант: «Вы не потратитесь. (Ваша тайная страсть: потратиться до нитки!)… Вы не израсходуетесь, но Вы задохнетесь… Вам надо отвод: ежедневный, чуть ли не ежечасный. И очень простой: тетрадь».
Может, все эти письма — ее отвод, иначе она могла бы задохнуться…
К слову сказать, и в письмах Марина Ивановна опережает свое время: она пишет их с той предельной откровенностью, с которой не было принято писать в те годы, а она отлично знала страшность и неотвратимость слова и понимала, что, обращаясь к одному, она говорит со всеми…
А на вопрос: умела ли она любить? любила ли другого — она опять же сама дает ответ: «боюсь, что беда (судьба) во мне, я ничего по-настоящему, до конца, не люблю, не умею любить, кроме своей души, т. е. тоски, расплесканной и расхлестанной по всему миру и за его пределами. Мне во всем, в каждом человеке и чувстве, — тесно, как во всякой комнате, будь то нора или дворец. Я не могу жить, т. е. длить, не умею жить во днях, каждый день, — всегда живу вне себя. Эта болезнь неизлечима и зовется: душа».
Этой болезнью Марина Ивановна больна и здесь в Голицыно, зимой 1939–1940 года.
И если я так злоупотребила цитатами из писем Марины Ивановны, то сделала это потому, что вряд ли кто лучше ее самой сумеет рассказать о ней. А этот беглый заход в прошлое, мне кажется, дает хотя бы некоторое представление об источнике ее ранящей лирики и о тех душевных муках и трагедиях, которые сопутствовали ей всю жизнь. И нам теперь понятнее будет, сколь органичны и неизбежны были ее увлечения здесь, в России, после приезда из эмиграции, тогда в Голицыно, в Москве, в последние годы ее жизни, и как, пройдя сквозь пытки Болшево, ей было особенно необходимо почувствовать, что она жива — живет и снова — в полете…
И в этом ей содействует, быть может, сам того не понимая, не замечая поначалу, Евгений Борисович Тагер. Он приезжает в декабре в Голицыно. Он знает, что там находится Марина Ивановна, он увлекается ее стихами, он наслышан о ней от Пастернака, он рад встрече с ней. Он первый подходит к ней в голицынской столовой и говорит ей всякие взволнованные слова. Он молод, темноволос и темноглаз, он интересен, интеллигентен, он хорошо воспитан, начитан, он знает поэзию, поэтов, он литературовед. Он ищет встреч с Мариной Ивановной, он ждет ее прихода, он к ней внимателен, предупредителен. Они гуляют вместе в голицынском лесу, прокладывая тропки в сугробах снега. Метет январская поземка и заметает их следы, когда он провожает ее по Коммунистическому проспекту в безымянный переулок, где за куриным двориком она живет. Они перекидываются шутливыми записочками за столом, они встречают Новый год в голицынской столовой, обмениваются сувенирами, он пишет ей шутливые стихи: «Замораживается стих и не оттаивает, когда рядом сидит Цветаева…»