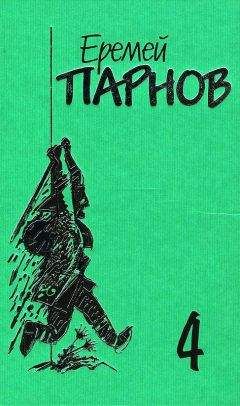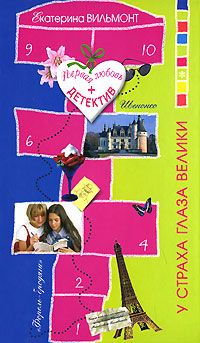Еремей Парнов - Под ливнем багряным: Повесть об Уоте Тайлере
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
НЕИСТОВЫЙ ПРЕСВИТЕР
Джон Болл, священник церкви св. Марии, приветствует всякого звания людей и просит их именем троицы — отца, сына и святого духа — мужественно стоять за правду и помогать правде, и правда поможет им.
Теперь в мире господствует гордость,
Жадность считается мудростью.
Разврат не знает стыда,
Чревоугодие не вызывает никакого осуждения,
Зависть царствует как будто так и надо,
Леность в полном почете.
Боже, накажи их: теперь время.
Письмо Джона БоллаЛюди, тайно похитившие Болла, скрыли лица за капюшонами погребального братства. Еще не светало, когда они прокрались в хижину свинопаса Гольфрида, набросили на мирно спавшего проповедника пропахшую конским потом попону и выволокли его во двор. Здесь ему умело забили рот кляпом, крепко связали и бросили поперек седла. Все свершилось молниеносно и в полном молчании. Если бы не резь от впившейся в запястья веревки, Болл мог принять происшедшее за продолжение сна. Такое находит временами на человека незадолго до пробуждения, когда, вырываясь из тенет сновидений, дух уже готовится возвратиться в неподвижное тело, но внезапно проваливается в неизбывный кошмар. Не хватает дыхания, болезненно трепещет переполненное дурной кровью сердце, и нельзя шевельнуться, и рвется безмолвный вопль сквозь стиснутые зубы. Хочешь кричать, а не можешь, вопишь и не слышишь себя.
С трудом приподняв налитую свинцом голову, Болл конвульсивно содрогнулся, попытавшись вытолкнуть языком мерзкую тряпку, но, изнемогши от усилий, вновь повис неподвижной поклажей. На краткий миг, едва осознаваемый, приоткрылись неверные осколки пространства: луг, курившийся клочковатым туманом, дальний лес, стога сена, темные от дождя. Давясь густой и горькой слюной, душившей его, Болл зашелся в приступе кашля, не находившего выхода, разрывающего грудь и глаза. Тошнотворно близко возникла мокрая травка, измазанное навозом копыто, а затем откуда-то со стороны — пульсирующая темная жила, извилистая, словно река. Все пошло дрожью, съежилось под лошадиной утробой и вдруг померкло, погасив боль.
Очнулся он в луже, под холодным водопадом, низвергнутым из осклизлой бадьи. Со всех сторон нависали островерхие колпаки, стерегущие, словно лемуры загробного мира, малейший трепет грешной души. Над зубчатой стеной всплывало нездешнее бледное солнце. Кровь болезненными толчками била в самое темя, в ушах стоял заунывный звон, точно бряцал колокольчик впереди похоронной телеги. Потом даже стук колес чумного возка как будто бы различался и пение жалобное, прощальное: «Dies irae».[81] Словом, ничто не напоминало о возвращении к жизни, совсем напротив.
Болла грубо оторвали от мокрого булыжника, встряхнули и попробовали поставить на ноги, но он тут же обрушился вниз, едва не разбив колени. Занемевшие пальцы не двигались, разбухший язык омертвел. Он не помнил, как его вновь принудили подняться, освободили от пут и потащили куда-то, царапая пятками брусчатку двора. Ненароком оглянувшись, он успел заметить неподвижного всадника в мантии госпитальера и синевший далеко за ним шпиль собора. Характерные меридиальные ребра и недостроенная колокольня подсказали, что это Мейдстон. Незабвенное место! Шесть лет назад здешний шериф схватил Болла, когда тот проповедовал возле церкви святого Эдуарда Исповедника.
Архиепископская тюрьма не шла ни в какое сравнение с королевскими узилищами, вроде Маршалси или Флит, не говоря уже про омерзительные колодцы с решетчатым люком, где заживо гнили узники замков. По крайней мере, одиночные камеры с охапкой соломы в каменной нише мало чем отличались от обычного монастырского карцера. Тут можно было не только стоять в полный рост, но даже ходить от стены до стены. Восемь футов свободного пространства узник воспринял как улыбку фортуны. Порадовала и подвешенная к высокому потолку лампа. Ведь в Ситтингборне ему пришлось провести десять месяцев вообще без света.
— Я выйду отсюда, причем очень скоро, — усмехнулся он через силу, окинув оком свое вынужденное пристанище. — Двадцать тысяч придут за мной, когда прозвонит колокол.
Похитители лишь воззрились на него непроницаемой чернотой глазных прорезей и все так же в зловещем молчании покинули келью. Не обмолвился словечком и чахоточный старичок тюремщик, затворивший окованную железом дверь.
«Воистину безумен, — определил опытный страж, не без труда задвигая ржавый засов. — Кругом одни помешанные. Тут и сам чего доброго спятишь».
Уж он-то знал, что этот заключенный даже после смерти не выйдет на волю. Недаром же его поместили именно сюда, в бастион Гризельды, предназначенный для самых закоренелых и нераскаянных еретиков. Таких хоронили потом на маленьком кладбище, за оградой церковной часовни.
Старик зашелся в приступе кашля и, крестясь на ходу, побрел за цепью, чтобы утихомирить не в меру веселого постояльца, если тот надумает удариться в буйство. Такое частенько случалось с осужденными на вечное заточение. Престарелый прелат, который с вербного воскресенья был прикован к стене, тоже сперва угрожал, а потом вообразил себя конем святого Георгия и принялся жрать солому. Вот и пришлось его заковать, дабы уберечь от тяжкого греха самоубийства.
Не успел Болл устроиться на убогой лежанке, как его начали донимать полчища насекомых. Это оказалось пострашнее, нежели скачка вниз головой. Поневоле вспомнилась пытка раскаленным железом, которую пришлось наблюдать однажды в Нортгемптоне. Вконец измученный, проповедник достал неразлучную склянку и, раздевшись догола, натерся чудодейственной мазью, сваренной из медвежьего жира, змеиных головок и бальзамических трав. Нестерпимый зуд вскоре утих. Завороженно глядя на трепетный язычок, Болл попытался собраться с мыслями, но так и не смог сосредоточиться на чем-то определенном. Переживая и вновь обдумывая случившееся, он пришел к единственно верному умозаключению. Его заточили не иначе как по прямому повелению архиепископа Седбери. Ни Гонт, ни король не могли распоряжаться тюрьмой, находившейся в подчинении Кентерберийского диоцеза. В их власти было арестовать, передать коронному суду, наконец, просто убить, подвергнуть публичной казни, чтобы выставить потом голову на Лондонском мосту, а то и подослать тайного убийцу. Двор Джона Ланкастера не испытывал недостатка в отравителях, прошедших курс наук в нечестивом Париже, где поднаторели без лишнего шума спроваживать на тот свет даже собственных королей. Нет, тут явственно ощущалась рука матери-церкви.