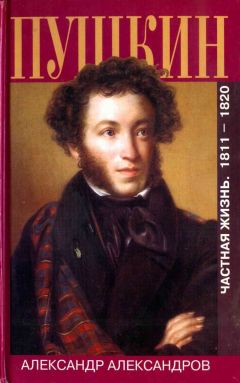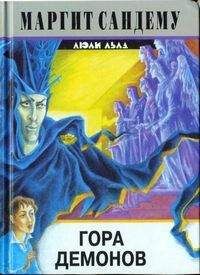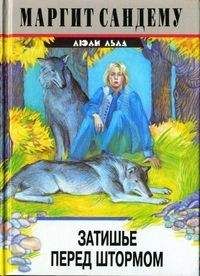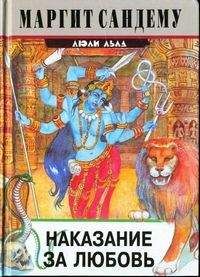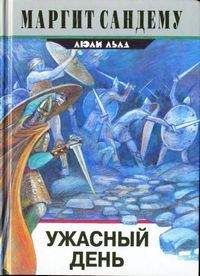Александр Александров - Пушкин. Частная жизнь. 1811—1820
Некоторые из последних сил складывали из закоченевших трупов, как из бревен, укрытия от мороза и ветра и умирали там, прижавшись друг к другу и пряча на груди награбленные драгоценности, захваченные еще по усадьбам в Москве и под Москвой, и, может быть, последнее, что они видели, была оскаленная смертная улыбка их бывшего товарища, смотревшего со стены на их тихий уход. Потом появлялись люди с пейсами, которых не пугали улыбки замороженных, и выковыривали из трупов ножами спрятанные драгоценности и деньги. Бродили они ночами, днем же евреи сами ходить не решались, а посылали на промысел своих Сарр с детьми, и те под видом помощи наклонялись над умиравшими, протягивающими к ним руки несчастными, добивая их каблуками и палками и забирая то, на что умиравшие рассчитывали как на последнюю гарантию выживания: все те же драгоценности, золото, деньги.
Государь дремал в дороге под медвежьей полостью, спрятавшись с головой в высокий воротник тулупа, и снилась ему Вильна, уютный зеленый городок, тот последний бал в Закретах, в двух верстах от города, где танцевал он с фрейлиной Софией Тизенгаузен бесконечный польский среди цветущих померанцевых деревьев, а у девушки были такие невинные и в то же время такие порочные глаза. Государь ехал к армии, а думал о фрейлине, которая осмелилась перед Наполеоном показать к нему, Александру, свое расположение. Он знал, что ее братья воевали против его войск, в наполеоновском лагере, что старший снарядил на свой счет небольшой кавалерийский отряд, что отец ее вошел во временное литовское правительство, но его грела и радовала мысль, что София одна среди виленских дам оказалась ему настолько преданна, и за это он готов был великодушно простить ее вероломных и недальновидных родственников.
Государь видел в ее поступке нечто большее, чем просто гордость полячки, он усматривал в этом что-то относящееся до него самого, не государя, а человека, и готов был биться об заклад с самим собой, что так оно и было. Он возвращался к армии, чтобы вновь взять на себя всю ответственность за события, и ему предстояли многие дела, включая и одно неприятное — вручить светлейшему князю Голенищеву-Кутузову, которому он перед отъездом в армию пожаловал титул светлейшего князя Смоленского, орден Георгия 1-й степени, высшей воинской награды в государстве, учрежденной Екатериной, которой были удостоены до князя, кроме самой учредительницы, всего восемь человек, и каких: Орлов-Чесменский, Румянцев-Задунайский, генералиссимус Суворов, граф Рымникский и князь Италийский, Потемкин… И вот теперь Кутузов-Смоленский, старик, проспавший всю кампанию, вравший своему государю напропалую (один Бог знает, чего Александру стоил хвастливый кутузовский бюллетень о победе, сменившийся известием о сдаче первопрестольной столицы), не сделавший ничего для поражения неприятеля и изгнания его из России, именно за это и должен получить Георгия I-й степени, высший военный орден. Государь не вспоминал и не вдумывался в то, что Кутузов из всех кавалеров ордена Георгия Победоносца стал единственным полным кавалером и, стало быть, три степени, до теперешней первой, он за что-то ведь получил.
«Как это было в сатирических стишках на последние события: Кутузов проспал, Чичагов прозевал, Платов прибежал, Витгенштейн наблюдал. Француз околевал, мужик защищал, голод истреблял, холод доконал, — вспомнил государь поданные ему князем Волконским стихи, ходившие по Петербургу в списках».
Государь ежился даже под медвежьей полостью и, засыпая, падал во мрак, с омерзением думая об общественном мнении, в угоду которому он делает все время уступки перед своими убеждениями.
Темнело зимою очень рано, и как-то в темноте наехали они в поле на казачий бивак, кругом дороги полыхали костры, вокруг которых собрались причудливо разодетые люди. Сборище представляло собой странную картину: бородатые мужики с серьгами в одном ухе, наряженные в мундиры французских генералов с золотым и серебряным шитьем, под французскими батальонными и полковыми знаменами, с навершиями в виде бронзовых орлов, развалились вокруг костра, пили дорогие французские вина, о чем свидетельствовали бутылки, в большом количестве валявшиеся в снегу, и слушали закутанного в пеструю шаль итальянского тенора из отбитого у французов обоза. Жаркая итальянская мелодия лилась среди заснеженных полей. Голос у певца был очень высокий, почти женский.
Казаки, а это были они, повскакали со своих мест и, узнав, что перед ними император, разразились приветственными криками. Государь сделал вид, что не замечает маскарада, ведь и сам он был одет далеко не по форме, а обратился к певцу по-французски с вопросом, как того зовут и как ему довелось оказаться в столь бедственном положении.
— Торкинио, — отвечал красноносый итальянец. — Эти доблестные ребята подобрали меня на большой дороге и отогрели, — указал он на казаков и потрогал такую же, как у них, серьгу в ухе. — Я тоже теперь казак!
— Как ты попал в Россию?
— Я прибыл с Великой армией. Я пел императору.
— Ну и что же ты ему пел? — поинтересовался государь.
— Он очень любил «Нину» Паиезелло, — отвечал певец. — Каждый вечер в Кремле он просил ее спеть. Может быть, вы возьмете меня с собой, генерал? — набравшись смелости, спросил итальянец. Он, кажется, так и не понял, кто перед ним. — Я вам тоже буду петь!
— Ты пел, а Москва горела? — печально спросил государь.
— Да! — воодушевился итальянец. — Горела. Жар был страшный. По улицам нельзя было ходить. Сверху сыпались головешки, пепел. Как будто извергался Везувий. Когда меня в первый раз вели к императору, то обвязали голову мокрым полотенцем. — Он обвернул шапку цветастой шалью, показывая, как это было, и захохотал.
Александр Павлович невесело усмехнулся вместе с ним, перевел взгляд на одного из казаков, рыжебородого красавца со странной серьгой в ухе. Присмотревшись, он понял, что у того в ухе болтается крест Почетного легиона. Государь снова усмехнулся и еще раз посмотрел на одноглавых бронзовых орлов с раскинутыми крыльями, венчавших навершия желтых наполеоновских знамен.
— Ну вот пой теперь, согревай моих казачков, — махнул рукой государь. — А Бог даст, доберешься до Вильны, ступай, братец, прямо во дворец, на кухню. Скажешь, что брат великого князя велел тебя накормить.
— Спасибо, мой генерал! — улыбнулся итальянец и, выполняя приказание, запел о прекрасной Нине.
Илья гикнул, четверня разом подобралась и рванула с места, сани понеслись, захрустел морозный наст, зазвенели-запели колокольцы под дугой. Отряд казаков на конях поехал сопровождать санный поезд государя. Они ехали с гиканьем, потрясая факелами и пиками с красными древками, украшенными лентами и флажками-флюгерами, хорунжевками, которые пронзительно засвистели и загудели на ветру. Во время атаки этот посвист и погудка наводили на неприятеля ужас своим слаженным напором, как и чернобородые и волосатые, казавшиеся непомерно большими головы казаков, их дикие татарские крики и кривые янычарские сабли, доставшиеся еще от дедов и прадедов.