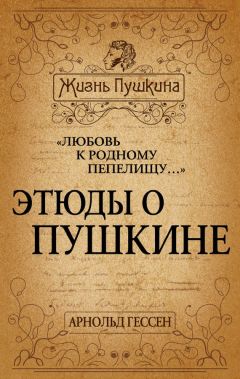Андрей Ерёмин - Отец Александр Мень. Пастырь на рубеже веков
Выдвижение этого внешнего — традиций и обрядов — на первое место означает возвращение к дохристианским временам магического отношения к вере.
«До тех пор, — полагал батюшка, — пока над людьми властвует традиция, пока у них нет своего личного мистического опыта, пока каждый идёт по пути, по которому ему наказали идти родители, до тех пор традиция разделяет людей. Но когда каждый находит свой личный путь к Богу, становится ближе к Нему, тогда же он находит и общий опыт с теми, кто был до него, и с теми, кто находится в других традициях».
Границы воздвигаются теми людьми, которые не имеют личного общения с Богом и не чувствуют тайны Божественной любви. Разобщенная Церковь являет нам духовную раздробленность, необращенность её членов, нахождение их по ту сторону христианского опыта.
Таким образом, путь объединения христиан лежит через углубление личной веры. Потому для отца Александра Церковь и была едина, что, пребывая в общении с Господом, он одновременно оказывался над временными человеческими границами.
Батюшка считал, что Церковь подобна своему основателю Богочеловеку Иисусу Христу. Но есть и огромная разница. Если в Иисусе Христе человеческое начало было свободно от зла и греха, то человеческое начало Церкви — земное, и оно не свободно от греха. Церковь состоит из обыкновенных людей, но она является семенем, зачатком, как бы ядром будущего человечества, которое должно соединиться в величайшем многообразии, в величайшей открытости, в величайшей свободе и, в то же время, в единстве.
«Прежде всего, почему Церковь едина? Потому, — говорил батюшка, — что мы взираем на единство Божие. А это таинственное единство… Вы думаете, напрасно людям открылась тайна Божественного Триединства? Напрасно Бог открыл Себя как Творец, как Логос и как Дух? Нет, отнюдь! Это имеет прямое, практическое значение для нашей жизни. Это вовсе не отвлечённая метафизика! Не отвлечённая догматика! Когда Рублев писал свою Троицу, он пластически, красками и линиями изобразил вот эту незримую тайну любви, этот круг, который как бы манит и призывает человека изменить свою модель мира».
Отец Александр подчёркивал, что Откровение это дано было в очень трудное для России время. «Когда Древняя Русь, — говорил он, — находилась в тяжком состоянии во время ордынского ига и во время княжеских междоусобиц, духовного кризиса и упадка, что можно было противопоставить этому распадающемуся миру? Любовь! А какую любовь?
Прежде всего любовь Божественную! Это глубоко поняли Андрей Рублев и преподобный Сергий — его предполагаемый учитель. Агрессивному, озлобленному миру святые противопоставили любовь, воплощённую в образе Святой Троицы. Как един Христос, как един Бог, как един Дух Божий — так едина Церковь. И когда Христос, очень редко употреблявший слово “Церковь”, сказал Петру: “Я создам Церковь Мою на скале, на камне, на Тебе, и врата адовы не одолеют её”, то Он сказал не: “Церкви МОИ”, а “Церковь МОЮ”, определяя Церковь как некую единую субстанцию».
Образ Рублевской Троицы стал для русских религиозных философов и богословов воплощением понятия соборности. В отличие от коллективизма, в котором личность исчезает, и от индивидуализма, в котором личность гипертрофируется, под соборностью богословы понимали единство, которое не убивает личность. Только тогда, когда Церковь стремится к подобному онтологическому единству, она приобретает способность продолжать жизнь и дело Христа на Земле. Но Церковь не подобна войску или какой‑то организации.
«Она, — говорил батюшка, — не ограничена ничем: ни временем, ни пространством, ни народом, ни племенем… Поэтому слово “соборная” можно также понимать как собранность со всех сторон мира. Господь послал апостолов проповедовать повсюду. И сегодня нет страны, где не было бы возвещено Евангелие. Разумеется, одни его приемлют, другие — отвергают, но предназначено оно для всех. Сегодня Священное Писание переведено на полторы тысячи языков и наречий, богослужение и проповедь звучат на самых разных языках. <…>
Всё началось с двенадцати человек, а теперь христиан — свыше миллиарда; и постепенно, шаг за шагом, вера Христова охватывает всё большее число людей. Для неё нет границ, и если когда‑нибудь люди вступят на другие планеты — и там будет существовать Церковь. Она — древо, ветви которого уходят в небо.
Более того, нет и такого состояния человеческого, которое не охватывала бы Церковь. Если Ветхий Завет запрещал вступать в общину уродам, калекам, душевнобольным, людям с разными изъянами, — Церковь открыта всем: каждый человек может пойти по пути Христову, если захочет. Она — вселенская и в географическом, и в историческом, и в духовном смысле слова».
Чем же объясняется тогда существование такого множества христианских общин: православные и католики, староверы и баптисты? Отец Александр видел здесь несколько причин.
«Прежде всего, — отмечал он, — когда мы говорим об историческом пути Церкви, мы не должны забывать, что Церковь синтезирует тайну великого достоинства христианства и недостоинства нас, христиан». В Церкви воплощается и Дух Божий, и наши человеческие слабости и страсти; здесь возникают проблемы, споры, национальные распри, культурные конфликты. Отец Александр считал этот процесс естественным и, более того, осмысленным, необходимым для того, чтобы Дух Божий преображал нас не механически, чтобы мы не видели в Божественной помощи «воздействия какого‑то волшебного луча, насильственно меняющего нашу природу, но сами добровольно стремились к тому, чтобы соответствовать идеалу, шли Ему навстречу и уже тогда получали силу преображения».
В своих размышлениях на эту тему он ссылался на В. Соловьева, который говорил, что «история Церкви есть процесс богочеловеческий, в котором действуют и божественные, и человеческие силы. Вот почему здесь было столько кризисов, упадков, неудач, столкновений. Вот почему, в конце концов, всегда высшее побеждало в самых отчаянных ситуациях».
Для того чтобы справляться с человеческими, земными проблемами, богочеловеческий организм Церкви должен иметь структуру и порядок. А «этот порядок, эта структура, — говорил отец Александр, — лучше всего были усвоены в Риме».
И не случайно «любимым словом в Риме было “конкордия” — согласие. Именно римский епископ оказывался центром согласия, когда Церковь начинали раздирать какие‑либо конфликты. Уже второй епископ Рима Климент Римский, написавший в 90–х годах послание к коринфянам, показал себя поборником порядка и законности внутри Церкви. Конечно, такая приверженность к порядку наложила на мышление и дух западного христианства определённую печать. И до сих пор в посланиях к окружным римским епископам ощущается вот эта кристальность, лаконичность и некоторая юридичность».