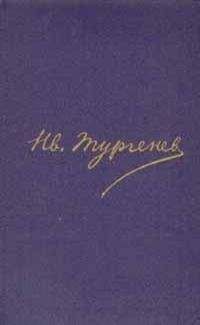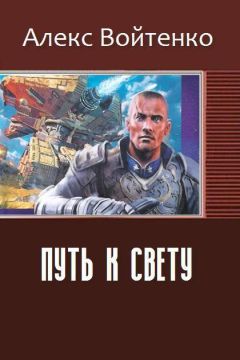Герберт Уэллс - Опыт автобиографии
Его черед пришел в то время, когда я уже научился пропускать мимо ушей лекции по физике. Я и пропустил их — от начала и до конца. Если Гатри был для меня слишком медлителен, то Бойс — слишком тороплив. Гатри оставил у меня впечатление, что я и без него знаю физику и, пусть даже что-то меня местами занимает, предмет этот не стоит изучения. Бойс промелькнул на периферии моего сознания, заронив во мне неутешительную мысль, что существует целая область поразительных вещей, к которым у меня нет отмычки. Я еще пребывал в раздражении от этого запоздалого открытия, когда учебный год подошел к концу, и, несмотря на то, что я не справился с аппаратурой, о чем будет еще сказано, сделал кое-какие ошибки и в результате потерял в оценках, я все же оказался среди первых сдавших экзамены по второму классу. Это не поколебало моего новоиспеченного убеждения, что в физике я ничего не смыслю.
Не знаю, как сегодня преподают этот предмет, но не приходится спорить, что тогда дело с ним обстояло из рук вон плохо. Половину учебных часов на протяжении целого года мы тратили отнюдь не на наблюдения, демонстрацию результатов, математический анализ и графическое изображение увиденного, что дало бы нам возможность выстроить в своей голове отчетливую картину физических процессов. Впрочем, я не вполне уверен и в том, что такая картина существовала в голове профессора Гатри; если же говорить о Бойсе, то, буде она в его голове, ему либо не хотелось сообщить ее нам, либо он просто был не в состоянии это сделать. И вот, вместо того чтобы освоить науку физику, мы растрачивали свое время по мелочам на несистематичные глупые «практические занятия», порожденные неспокойным воображением Гатри и вызывавшие у любознательной молодежи лишь досаду. Мне хотелось бы поделиться с читателем впечатлением ужаса, которое рождали во мне эти «лабораторные занятия».
По-видимому, профессор Гатри, когда готовил свой курс, был одержим мыслью, что большинству его студентов суждено стать учителями и экспериментаторами, остро нуждающимися в научной аппаратуре. Закон экономики, согласно которому спрос порождает предложение, был ему неведом, и он решил, что нам придется самим изготовлять необходимые приспособления. В таком случае, если вдруг вокруг нас соберутся ученики вечерних классов, мы не пропадем даже на необитаемом острове или в тропических джунглях. Соответственно он нацелил нас на изготовление наглядных пособий. Он как-то забыл, что физика — это экспериментальная, но все же наука, и переориентировал нас на техническую работу. Когда я впервые вошел в зоологическую лабораторию на верхнем этаже, для меня уже была приготовлена свежая тушка кролика, я занялся его препарированием и через неделю-другую приобрел солидные знания анатомии млекопитающих, включая механизмы мозга; знания эти базировались и на собственной моей работе, и на тщательно изученных результатах чужих работ, запечатленных в зарисовках препарирования иного типа. Когда же я появился в физической лаборатории, мне вручили выдувную трубку, кусок расплавленного стекла, кусок дерева, кусочки бумаги и медные детали, из которых следовало смастерить барометр. Вместо студента я стал стеклодувом и плотником.
Я вволю побил стекла, основательно обжег пальцы, после чего сумел запаять трубку длиною в ярд, согнул ее, открыл с другого конца, прикрепил к деревянной дощечке, наполнил ртутью, приспособил шкалу и соорудил самый неправдоподобный и уродливый барометр из всех возможных. Через несколько дней нелепой возни с раскаленной массой я узнал о барометрах, атмосферном давлении и физике в целом не более того, что узнал, покидая Мидхерст, разве лишь уяснил себе, что расплавленное стекло и слегка остыв остается все же очень горячим.
Затем мне вручили стеклянную пластинку, на которой я должен был, пользуясь фтором, разметить миллиметровую шкалу; никогда еще расстояние от одного миллиметра до другого не было столь огромно, как у меня. И снова я не расширил своих познаний в физике — разве что прожег кислотой дырку в единственных брюках.
После этого, если память не изменяет, мне поручено было изготовить из другого стекла определенного веса баллон с пробкой. Это отняло у меня несколько дней и уверило, что профессор Гатри просто дурачит меня и никак не намерен поделиться со мной своими познаниями в физике — если допустить, что он имел хоть какие-то познания или мысли в этой области.
Будь я дальновиднее и целеустремленнее, укрепясь в своем изначальном стремлении познать эту движущуюся оболочку материи, в которую заключается жизнь, я выискал бы учебники и первоисточники и, овладев математическим аппаратом, сумел бы, обойдя с флангов медлительного, неподвижного Гатри и быстрого, ускользающего Бойса, пробиться к окруженной чащобами и пустынями цитадели науки, от которой они меня отгораживали. Я же так не формулировал свою задачу, правда, в ту пору физика находилась на переходном этапе, и ясных объяснений новых открытий не было ни для студентов, ни для простых любителей. Дело даже не в том, что у меня не хватало времени и знаний, чтобы приблизиться к происходящему в науке и дать ему собственное истолкование, но в недостаточном масштабе мышления и силе воли. Я сделал слабую попытку приблизиться к основополагающим теориям, но у меня не было должной опоры.
В студенческом дискуссионном обществе, о котором я еще скажу позже, я услышал о четвертом измерении, и эта идея основательно заняла меня, породив новые представления о физических явлениях, которые заставили меня потом послать в «Фортнайтли ревью» статью «Жесткая Вселенная». Она была отвергнута Фрэнком Харрисом{93} как заумная, зато подала мне мысль о первом моем научно-фантастическом романе «Машина времени», а также послужила основой для тонкой, проверенной на Дженнингсе и других шутки, когда я предложил создать некую «Универсальную диаграмму», откуда могли бы быть методом дедукции извлечены все общие понятия, легко применимые к частностям. Если существует жесткая, а тем самым и цельная конструкция Вселенной, то существует и взаимозависимость всех ее составляющих, а тем самым — здесь я следовал материалистическим представлениям — и их зависимость от скорости первотолчка: частица, сдвинутая с места в равномерно распределенном эфире, передает скорость своего движения другим частицам и далее по нарастающей. Но я не знал способа как-то связать эти мои изначальные интуитивные догадки с современной экспериментальной физикой, и не нашлось никого, кто помог бы мне это сделать.
Эта неудача заставила меня, естественно, как это и бывает у всех испытывающих разочарование, начать осмеивать современную физику. Я принялся всеми доступными методами издеваться над наставлениями Гатри, пропускать занятия, а призванный к порядку, приносил с собой латинские и немецкие учебники и демонстративно изучал их в лаборатории. В те дни экзамены в Лондонском университете были доступны всем желающим и проходили в свободной форме собеседования. Экзаменующемуся достаточно было показать поверхностные знания во французском, латыни, а также в немецком или греческом языках, по его выбору, и я решил, что немецкий легче. Мои познания в немецком, вызубренном самостоятельно, оказались достаточными. Занятия физикой меня не удовлетворяли, что я и продемонстрировал в январе 1886 года, сдав экзамены в Лондонском университете — дескать, не физикой единой.