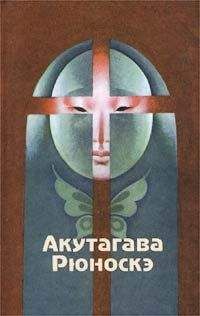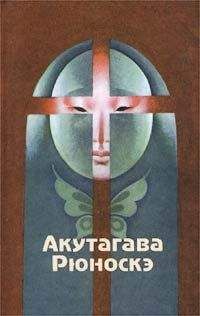Леон Островер - Тадеуш Костюшко
7 мая он издал «Поланецкий универсал». Составил его Костюшко в содружестве с Гуго Коллонтаем. Универсал предоставлял крепостным личную свободу, но уйти от своего помещика они могли только после того, как полностью рассчитаются с ним и внесут налоги государству. На время восстания размеры барщины сокращались почти наполовину. Для крестьян, участвовавших в восстании, барщина вовсе отменялась, а их хозяйство поручалось заботам и попечению помещиков и гмин. За крепостными признавалось наследственное право на обрабатываемую ими землю. Особыми параграфами Костюшко предупреждал о том, что нарушение постановлений универсала будет преследоваться судом и караться.
Универсал не создал необходимых условий для массового участия крестьян в восстании, но предоставление личной свободы крепостным и уменьшение феодальных повинностей уже являются значительным шагом вперед по сравнению с «Конституцией 3 мая».
Костюшко понимал, что этот акт не удовлетворит крестьян, однако общественную пользу универсала он видел в том, что впервые в государственном акте проявляется забота о крестьянине. Костюшко радовался уже тому, что универсал призывает хлопов отвечать наряду со шляхтой за благополучие своей родины. Правда, к концу восстания Костюшко заготовил «Новый универсал»: наделить землей тех крестьян, которые мужественно выполняли свой воинский долг, но… восстание было подавлено, «Новый универсал» не был обнародован.
Опасения Коллонтая оправдались: крестьяне поняли, что даже победа в войне не принесет им освобождения от помещичьего рабства. Они не бежали с поля боя, не покидали своих знамен, но героев гловацких среди них уже не находилось. А ведь только сейчас начинали развиваться военные действия, и от стойкости крестьян, от их желания геройствовать зависела судьба восстания.
Май был жаркий, душный. Гроза нагоняла грозу. Набегали стремительные ливни, и не успевала высохнуть земля, как начинался свежий дождь. Однако в лагере Костюшки жизнь шла по заведенному порядку: стрельбища, рубка, рытье окопов.
Полковник Ян Килинский.
Полковник Берек Иоселевич.
Т. Костюшко в старости. С картины Кс. Цельтнера.
Штаб был расположен в аббатстве. С утра дотемна Костюшко составлял послания, писал приказы, изучал рапорты командиров отдельных частей и тут же отвечал на них. Юлиан Урсын Немцевич, начальник канцелярии, едва поспевал оформлять эти резолюции.
Костюшко был суров и серьезен. На его лице, высохшем, с заострившимися скулами, отражалось внутреннее напряжение. Поздно вечером он ужинал: кислой капустой, черным хлебом, запивая стаканом пива, но тяжелые думы не покидали его и за едой: поднесет кусок хлеба ко рту, и рука повисает в воздухе, взгляд устремлен вдаль, а на лице застыло выражение упорства и страдания.
28 мая поголубело небо, засияло солнце — все вокруг заискрилось, оживилось. Костюшко работал. Вдруг около полудня донесся со двора взрыв буйной радости: «Виват Понятовский!»
Мелькнула мысль: неужели король? Костюшко подошел к окну. Из открытой коляски сошел на землю стройный молодой человек в штатском. Солдаты и штабные офицеры окружили его, их лица сияют.
— Юзеф Понятовский, — тихо сказал Костюшко, — он-то откуда взялся?
В эту минуту вошел в комнату Немцевич.
— Письмо от имч пана Коллонтая. Спешное.
— Посмотри, Урсын, как встречают князя Юзефа.
Немцевич встал рядом с Костюшкой.
— Обрадовались панове офицеры.
— И солдаты, — грустно добавил Костюшко.
— Видно, те, что воевали с ним.
— Не только.
— Красавец, племянник короля, храбрый солдат — все это импонирует. — Немцевич протянул письмо. — Курьер предупредил, что имч пан Коллонтай просил немедленно вручить вам этот пакет. Вскрыть?
Явился адъютант.
— Его светлость князь Юзеф Понятовский просит имч пана главного начальника принять его.
— Пусть войдет.
Юзеф Понятовский был во фраке, с австрийским орденом на шее. Он огляделся в комнате: стол, несколько табуреток, кровать с соломенным тюфяком. Костюшко в полотняной куртке без погон. Понятовский смутился. И хозяин и обстановка показались ему необычными.
— Что князю угодно? — услышал он сухие слова.
— Служить хочу.
— Дяде или народу?
— Полагаю, что это одно и то же.
— Сегодня это не одно и то же. — Костюшко указал на табурет. — Прошу. Ты, князь, засиделся в Бельгии. Что-то задерживало? Но ты все же приехал, и это хорошо. Можешь, князь, сейчас принять команду?
— Сначала хочу в Варшаву.
— Что ж, поезжай, князь.
Понятовский не ушел. Немым укором смотрели его глаза.
Костюшко понял, что беспокоит нежданного гостя, он подошел к нему и торжественно сказал:
— Я не забыл, князь, кто ты, и знаю, что ты хочешь от меня. Знай, князь, что революция эта, как бы успешна она ни была, не будет направлена против особы короля.
— Верю тебе, честный Костюшко, — и, щелкнув по-военному каблуками, удалился.
Костюшко и Немцевич подошли к окну. Солдаты и офицеры опять встретили князя радостным «виват». Костюшко грустно взглянул на Немцевича.
— Знаешь, Урсын, как началась Вандея?
Немцевич понял, что волнует Костюшко.
— Дорогой Тадеуш, — ответил он мягко, — у нас Вандеи не будет, потому что не было революции,
— А как ты называешь то, что у нас есть?
— Инсурекцией.
— Заблуждаешься, Урсын. Висла у истоков тоже течет узенькой струйкой. Инсурекция — это начало. Набравшись сил, она становится революцией.
— Тогда не понимаю, Тадеуш. Почему ты предложил ему команду? Почему пускаешь волка в овчарню? Если король вызвал его из Бельгии для того, чтобы начать Вандею, то проще всего не пускать в армию. Ведь князь Юзеф опаснее своего дядюшки: он умен и энергичен, в месяц сплотит Вандею.
— Опять, Урсын, заблуждаешься, — ответил Костюшко спокойным голосом. — Враг, что на виду, не опасен. И кроме того, Урсын, я не верю, что князь Юзеф враг, он честный человек. И как ты сказал, еще и умен, да еще и честолюбив. В Польше он князь Понятовский, а на чужбине — кавалерийский офицеришка. Он эту разницу понимает. Но об этом в другой раз. Читай письмо.
Письмо было пространное, написанное тем точным и строгим языком, каким Коллонтай обычно писал свои статьи.
Прослушав письмо, Костюшко молча вернулся к своему столу и принялся за прерванную работу.
Но работать, видимо, не смог: не то мешал стоявший рядом Немцевич, не то думал о письме Коллонтая.
— Что ты скажешь? Это осторожность обывателя или прозорливость политика? — спросил он.