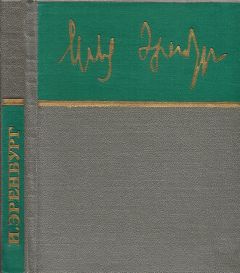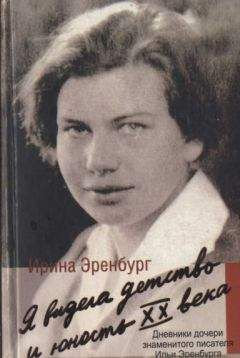Ева Берар - Бурная жизнь Ильи Эренбурга
Разумеется, в Испании Эренбург читал советские газеты, слушал рассказы вновь прибывших о борьбе с «врагами народа». Ему было известно, что происходит в СССР, и все-таки, едва ступив на московскую землю, он понял, до какой степени его представления были далеки от реальности. «Мы приехали в Москву 24 декабря. На вокзале нас встретила Ирина. Мы радовались, смеялись; в такси доехали до Лаврушинского переулка. В лифте я увидел написанное рукой объявление, которое меня поразило: „Запрещается спускать книги в уборную. Виновные будут установлены и наказаны“. „Что это значит?“ — спросил я Ирину. Покосившись на лифтершу, Ирина ответила: „Я так рада, что вы приехали!..“ Когда мы вошли в квартиру, Ирина наклонилась ко мне и тихо спросила: „Ты что, ничего не знаешь?“»[363]. На каждом шагу его поражают подобные иероглифы, которыми отмечена вся советская действительность; он быстро выучился понимать их скрытый смысл. Он пытается навести справки о тех, кто был с ним в Испании, — в большинстве случаев безуспешно. Он надеется на радостную встречу со старыми друзьями в Тбилиси — «средневековыми принцами» Табидзе и Яшвили, которые привечали его во время его поездки в голодном 1920 году. Но встреча не состоялась: 22 августа Паоло Яшвили застрелился из ружья, не желая подписывать донос на Тициана Табидзе, но тот все равно был арестован. Он хочет повидаться с Ниной, женой Тициана, но оказывается, та передала, «чтобы мы ее не искали, — не хочет нас подвести»[364]. На ней уже стояло клеймо жены «врага народа».
Эренбург почти физически ощущает страх, которым пропитана вся советская жизнь. Наконец неясная угроза материализуется: он узнает, что вопрос о его возвращении в Испанию подлежит «рассмотрению» ответственных товарищей, что такие решения быстро не принимаются и ему надлежит набраться терпения и пробыть в Москве еще пару месяцев. Растерянный, озадаченный, он пытается понять, что скрывается за этим пугающим вердиктом. Он внимательно прислушивается к рассказам Исаака Бабеля, который давно знаком с женой Ежова, порой ходит к ней в гости, наблюдая вблизи зловещего сталинского наркома, оператора «великой чистки»: «Однажды, покачав головой, он сказал мне: „Дело не в Ежове. Ежов старается, но дело не в нем…“»[365] У Эренбурга вскоре тоже появится возможность увидеть своими глазами и с близкого расстояния, как работает адская машина: в марте 1938-го он получит пропуск в зал суда, где будет проходить процесс над так называемым «правотроцкистским блоком»; главным обвиняемым на этом процессе будет не кто другой, как его старый друг, сверстник и покровитель Николай Бухарин.
Процесс над Бухариным
Пожалуй, немного найдется в жизни Эренбурга таких страшных дней. Нам не дано узнать, как он их пережил. В Октябрьском зале на скамье подсудимых он увидел восемнадцать человек, измученных, со следами пыток, с блуждающим взглядом, с запавшими глазами. Он оказался лицом к лицу со своей юностью, со своим прошлым — и с тем, что угрожало стать его близким будущим. Он слушает обвинительное заключение, чудовищное по своей абсурдности: Бухарин обвиняется в заговоре с целью убийства Сталина и его соратников, а также в замысле убийства Ленина в 1918 году, в открытии границ Советского Союза для Германии и Японии и продаже советской территории другим державам, в подмешивании битого стекла в детское питание, в попытках восстановления капитализма и в экономическом саботаже. Чтение обвинительного акта прокурор Вышинский заключил, называя Бухарина «проклятой помесью лисы и свиньи». Американский журналист, присутствовавший на процессе, сообщал: «Один Бухарин, который, произнося свое последние слова, очевидно, знал, что обречен на смерть, проявил мужество, гордость и почти что дерзость. Из пятидесяти четырех человек, представших перед судом на трех последних открытых процессах по делу о государственной измене, он первым не унизил себя в последние часы процесса»[366].
Наверное, у Эренбурга поведение Бухарина вызывало не меньшее уважение. Но главным его чувством, скорее всего, был страх. Какую судьбу готовит ему Великий Организатор публичных казней? При выходе из зала суда главный редактор «Известий» предлагает ему написать отчет о процессе. Эренбург отказывается. В таких обстоятельствах молчание само по себе есть акт мужества. Но с этого момента молчание станет его позицией, от которой он не откажется до конца жизни. До оттепели он никогда не скажет публично ни одного слова, чтобы почтить память друга, ни разу не упомянет о нем. Когда после смерти Сталина он попытается вставить имя Бухарина в свои воспоминания, то наткнется на твердое «нет» Хрущева.
Чтобы представить себе масштаб опустошения, произведенного великой чисткой среди его коллег по работе, ему достаточно было пройтись по редакционным кабинетам «Известий». Вскоре беда обрушилась на другого товарища Эренбурга по двадцатым годам — Всеволода Мейерхольда, корифея театрального авангарда. 8 января 1938 года театр Мейерхольда был закрыт как «чуждый советскому искусству», а за великим режиссером установили слежку.
Во время предыдущего приезда Эренбурга в Москву, в 1936 году, Мейерхольд репетировал пушкинского «Бориса Годунова». Драма Пушкина привлекла режиссера своей трагической развязкой: как известно, в свое время царская цензура заставила поэта изменить финал, в котором народ восторженно приветствует царя-самозванца; он ограничился знаменитой ремаркой «Народ безмолвствует». Спустя сто лет Мейерхольд вновь обращается к теме безмолвия потрясенного народа: «Когда он (Пушкин) по требованию цензуры заменил возглас народа „Да здравствует царь Димитрий Иванович!“ знаменитой ремаркой „Народ безмолвствует“, то он перехитрил цензуру, так как не уменьшил, а усилил тему народа. Ведь от народа, кричащего здравицу то за одного, то за другого царя, до народа, молчанием выражающего свое мнение, дистанция огромная. Кроме того, Пушкин задал русскому театру будущего интереснейшую задачу необычайной трудности: как сыграть молчание, чтобы оно вышло громче крика?»[367] Сталину пришелся не по душе красноречивый эпизод с «безмолвствующим народом», репетиции «Бориса Годунова» были прерваны.
Гораздо позже, в шестидесятые годы, Эренбург в своих мемуарах напишет о «заговоре молчания», который, словно круговая порука, связывал людей в те жуткие годы. Он признает, что никогда не верил абсурдным обвинениям против людей, чья невиновность была очевидна, — и однако молчал вместе с миллионами соотечественников, понимая бессмысленность любого протеста, заведомо бессильного остановить ход чудовищной машины репрессий. Погубить и себя самого — вот единственное, чего можно было добиться протестами. Но каждая эпоха выдвигает своих прокуроров — и в шестидесятые Эренбурга станет изобличать Л. Ильичев, член хрущевского ЦК: он поставит писателю в упрек, что тот изобрел «теорию молчания», чтобы снять с себя лично всякую ответственность. Однако Эренбург будет настаивать на том, что молчание было в 1930-х годах единственной формой протеста, на который решались далеко не все. Ибо и молчать в те годы было опасно. Но существовал ли на самом деле «заговор молчания»? Безмолвствовал ли народ? «Простой народ» — рядовые москвичи, рабочие, служащие — разражался криками и «бурными аплодисментами, переходящими в овацию», при каждом упоминании имени Сталина. А «творческие работники»? О том, что происходило с творческой интеллигенцией, вспоминает Надежда Мандельштам: «Растерянные люди метались, и каждый говорил, что ему взбредало на ум, и спасался, как может. Испытание страхом — одна из самых страшных пыток, и после нее человек уже оправиться не может»[368]. И даже те, кого машина уже раздавила, не умели хранить молчание: они давали показания, обвиняли, доказывали свою невиновность. В папке писем, полученных писателем во время публикаций «Люди, годы, жизнь», находится и такое письмо: «Напрасно Вы дописываете свою книгу, Илья Григорьевич. Поставить бы Вам точку на середине 30-х гг.? а остальное все равно допишут другие. <…> В историю вошли писатели Золя и Толстой, которые не могли молчать, и писатель Эренбург, который молчал. Писал романы, анализировал, обобщал, выступал на радио и в прессе, на родине и за границей, говорил громко, на весь мир — и молчал»[369].