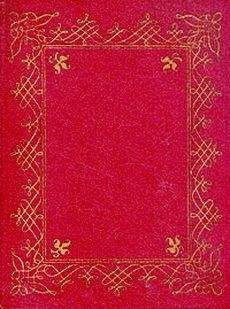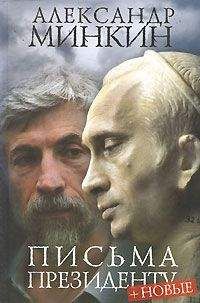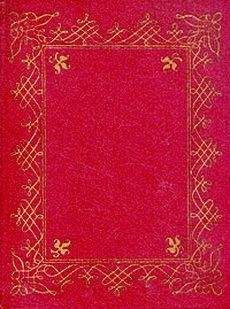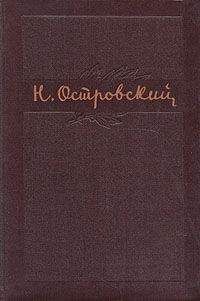Николай Черкасов - Записки советского актера
Для того чтобы убедиться в правильности этого вывода, достаточно вспомнить таких выдающихся советских актеров, как Б. В. Щукин и Б. Г. Добронравов.
В своем Егоре Булычове Б. В. Щукин великолепно передавал черты «цивилизованного купца» предреволюционной России. Все в этом образе было безукоризненно верно, и притом верно в чисто историческом плане. Щукинский Булычов — плоть от плоти своей эпохи и своего класса, он исторически портретен в самом высоком значении слова. И все же не только этим объясняется слава этого великолепного создания актера. Секрет успеха Б. В. Щукина заключается, по–моему, еще и в том, что, исполняя роль Булычова, он не боялся обнаруживать самого себя, — умного, наблюдательного, широко мыслящего советского человека. Пристальный и проницательный взгляд нашего современника как бы освещал изнутри созданный Щукиным характер. И этим больше всего объясняется то широкое зрительское понимание, которым встретила его советская театральная аудитория.
Помнится, в свое время велись оживленные дискуссии о том, можно ли играть так называемое «отношение к образу». Ответ, — и притом самый категорический, — на этот вопрос дан всем опытом, всем существом нашего театрального искусства: ведь, в сущности говоря, именно отношение к образу и рождает самый образ, только активная позиция, занимаемая художником в жизни, и дает ему право творить жизнь в своих художественных созданиях!
Б. Г. Добронравов с огромной искренностью, с необычайной силой внутреннего перевоплощения исполнял роль Войницкого в «Дяде Ване». Как и Щукин в Булычове, он жил в своем Войницком всей полнотой внутренней жизни человека чеховской эпохи. И все же, несмотря на это, а скорее всего именно поэтому, зрители все время чувствовали, что душу чеховского героя открывает перед ними их современник, обогащенный опытом советской действительности, думающий точно так же, как думают они, живущий теми же, что и они, представлениями.
Мне было бы трудно объяснить, чем именно Б. В. Щукин, Н. П. Хмелев, Б. Г. Добронравов и многие другие советские актеры достигали такой силы воздействия на зрителей. Но я уверен, что зрители глубоко оценили в них не только их замечательную способность к внутреннему перевоплощению, но и их уменье где–то и в чем–то оставаться собой. Да, собственно говоря, иначе и быть не может: в любом произведении искусства, в том числе и в произведении актерского искусства, зрители хотят увидеть и услышать самого художника. Вот почему советский актер, что бы он ни играл, каков бы ни был круг его образов, должен, не уставая, со всей настойчивостью учиться у жизни, все глубже проникать в характеры своих современников, все более совершенствовать свое мировоззрение. Нет и не может быть «особых» ролей, в которых такая работа актера над собой не принесла бы ощутимых творческих результатов!
Великие артисты К. С. Станиславский и В. И. Немирович — Данченко развили и углубили лучшие традиции русской реалистической школы актерской игры. Они разработали стройную систему воспитания актера–гражданина, актера–художника, способного передать со сцены все богатство человеческих мыслей и чувств. Они содействовали коренной реформе всего театрального искусства, что не могло не оказать неоценимого влияния также на развитие художественной мысли и практики советской кинематографии.
Каждый творческий работник советского театра и кино ощущает на себе щедрое влияние Московского Художественного театра и благотворное воздействие заветов его основателей.
Я был счастлив поучительному содружеству по работе в кино с талантливыми мастерами Художественного театра А. К. Тарасовой, М. М. Тархановым, В. О. Топорковым, Б. Н. Ливановым, в творческом общении с которыми крепло, развивалось и утверждалось мое мастерство, его художественное направление.
С большой благодарностью вспоминаю совет Б. Н. Ливанова, данный мне на съемках «Депутата Балтики».
Репетировалась сцена собрания контрреволюционной интеллигенции. Бывший ученик профессора Полежаева и его ассистент Воробьев, перешедший в лагерь саботажников, порывистым жестом отбрасывал полежаевскую рукопись, похищенную им из типографии, швырял ее на пол, — и она рассыпалась на сотни листков, разлетавшихся в разные стороны.
Репетируя эту сцену, я вначале чуть ли не с рыданиями падал на пол. Полежаеву было жалко себя, глаза на его страдальческом лице наполнялись слезами, ему становилось дурно. Сцена не получалась, не удовлетворяла меня.
— Не жалей себя! Действуй, выполняй задачу! А уж пожалеет тебя зритель! — дружески крикнул мне Б. Н. Ливанов, участвовавший в съемке как исполнитель роли Бочарова, студента–большевика, любимого ученика Полежаева.
Прислушавшись к совету Б. Н. Ливанова, я повел ту же сцену с улыбкой, как бы извиняясь перед окружающими за то, что доставил им много хлопот, заставив поднять себя, усадить и принести стакан воды, причем мой Полежаев, виновато улыбаясь, приговаривал совершенно естественно возникшую фразу:
— Вот ведь какая произошла штука…
Таким образом, замечание Б. Н. Ливанова практически, в данной ситуации, натолкнуло меня на прием использования «обратной краски», установленный К. С. Станиславским. Если вырезать этот кусок из общей сцены и показать его отдельно, может создаться впечатление, что профессор Полежаев извиняется за какой–то совершенный им проступок, тогда как в монтаже сцена производит вполне оправданное сильное впечатление.
С великолепной убедительностью пользовался тем же приемом Б. В. Щукин в роли Егора Булычова.
Егора Булычова — человека, пораженного смертельной болезнью, Б. В. Щукин играл так, что нигде ни на одно мгновенье не открывал зрителю признаков этой болезни. От этого в сценах, когда окружающие напоминали ему о болезни, ощущение обиды за него, такого полноценного, такого здорового, такого полнокровного, живого человека, становилось особенно острым. Нечего говорить о том, что весь последний акт, в особенности самая сцена смерти такого Булычова, какого показывал Б. В. Щукин, воспринималась с необычайным трагическим напряжением.
Почти одновременно я имел возможность увидеть другого Булычова, которого играл тоже крупный актер — Н. Ф. Монахов. В своей трактовке образа он шел по противоположному пути. Н. Ф. Монахов все время напоминал зрителю о своей болезни, он играл самую болезнь, играл обреченность Булычова, а не борьбу с болезнью за свою жизнь, которую тот вел, и от этого зритель не столько волновался, сколько уставал. Помню, как артистично прикасался Монахов к больному месту. Но Щукин ни разу не делал этого. Он подходил к печке, обнимая ее широким жестом и грея больную часть тела, кричал здоровым сильным голосом: «Глафира!» Монахов играл болезнь, а Щукин — сопротивление болезни, Монахов играл тему, а Щукин — действие.