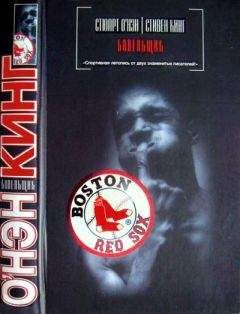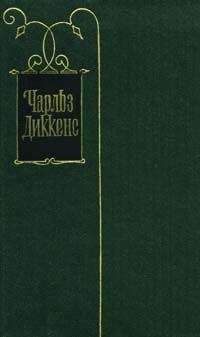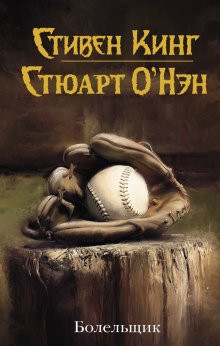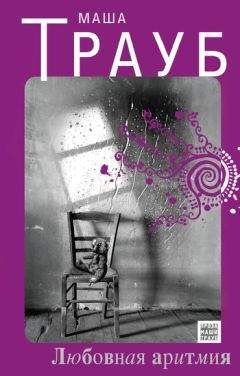Николай Чуковский - Литературные Воспоминания
В тридцать пятом или тридцать шестом году, осенью, в дождь, я как-то возвращался из Москвы в Ленинград. На Ленинградском вокзале в Москве я увидел Мандельштама, сидевшего рядом с женой на потертом чемодане. Чемодан был маленький, и, затерянные в огромном зале, они сидели, тесно прижавшись друг к другу, как два воробья. Я подошел к ним, и в глазах Мандельштама блеснула надежда. Он спросил, каким поездом я еду. Я ехал «Стрелой».
– А мы на час позже,— сказал он.— Мы пошли бы посидеть в ресторан, но…
Я понял его и дал ему пятьдесят рублей.
В наступившие вскоре страшные времена он написал стихотворение, полное удивительного человеческого достоинства:
Мне на плечи кидается век-волкодав,
Но не волк я по крови своей,
Запихай же меня, словно шапку, в рукав
Жаркой шубы сибирских степей,
Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы,
Ни кровавых костей в колесе,
Чтоб сияли всю ночь голубые песцы
Мне в своей первозданной красе.
Уведи меня в ночь, где течет Енисей,
Где сосна до звезды достает,
Потому что не волк я по крови своей
И меня только равный убьет.
Но выслали его поначалу не в Сибирь, а только в Воронеж. Выслали его без всякой вины, а просто так, потому что он был
Как беззаконная комета
Среди расчисленных светил.
Он, постоянно кочевавший из города в город, мог бы жить и в Воронеже, но беда заключалась в том, что там у него не было никаких средств к существованию. Пользуясь слабостью надзора, гонимый голодом и тоской, он несколько раз сбегал оттуда в Москву и однажды добрался даже до Ленинграда. Тут я видел его в последний раз в жизни.
Днем мне позвонил мой друг Стенич и попросил вечером прийти к нему. Жил он тогда на Канале Грибоедова, 9 в маленькой двухкомнатной квартирке. Там я застал кроме Стенича и его жены Мандельштама с Надеждой Яковлевной и Анну Андреевну Ахматову. Мандельштам был в мохнатом темно-сером пиджаке, который ему за час перед тем подарил Юрий Павлович Герман. Пиджак этот был очень велик и широк Мандельштаму, из длинных рукавов торчали только кончики пальцев. Поначалу Мандельштам был молчалив и угрюм, да и все молчали. Стенич сделал попытку почитать стихи из только что тогда вышедшей «Второй книги стихов» Заболоцкого; он читал, восхищаясь, но Ахматова слушала сдержанно, а Мандельштам, со свойственной ему прямотой, сказал, что ему не нравятся ни прежние стихи Заболоцкого, ни новые. Он стал просить Анну Андреевну почитать что-нибудь. Она неохотно и без подъема прочла «Мне от бабушки-татарки были редкостью подарки» — стихотворение, которое мы все хорошо знали. Хозяева повели нас в соседнюю комнату к столу. Стол был не роскошен, но на нем стояло несколько бутылок красного вина.
Выпив вина, Мандельштам оживился. Мы попросили его читать стихи, и он читал много, увлеченно, всю долгую угрюмую ленинградскую ночь напролет, все больше и больше одушевляясь. Он почти пел их, наслаждаясь каждым звуком, и мохнатые рукава его, как мягкие ласты, плыли в воздухе над столом.
На другой день он уехал. Через неделю Стенич был арестован. Потом был арестован и Мандельштам. Оба они погибли.
А я навсегда запомнил одно из его стихотворений, которое он читал нам в ту ночь у Стенича:
Жил Александр Герцович,
Еврейский музыкант,
Он Шуберта наверчивал,
Как чистый бриллиант,
И всласть, с утра до вечера,
Заученную вхруст,
Одну сонату вечную
Играл он наизусть…
Что, Александр Герцович,
На улице темно?
Брось, Александр Герцович,
Чего там?.. Всё равно…
Пускай там итальяночка,
Покуда снег хрустит,
На узеньких на саночках
За Шубертом летит.
Нам с музыкой, голубою,
Не страшно умереть,
А там – вороньей шубою
На вешалке висеть…
Все, Александр Герцович,
Заверчено давно,
Брось, Александр Скерцович,
Чего там?.. Всё равно…
БОГОБОРЕЦ
Никогда за всю историю нашей страны не было в ней столько чудаков, как в первые годы революции.
В эту эпоху великого перелома для множества людей рухнули привычные, издавна установленные нормы морали, мышления, быта, все прежние верования превратились в суеверия. А новое складывалось медленно и для слишком многих смысл его был еще неясен и чужд. Так после взрыва долго еще стоит в воздухе пыль, медленно оседая, и отдельные пылинки, никак между собою не связанные и ни к чему не прикрепленные, выделывают самые причудливые пируэты. Не знаю, правильно ли мое объяснение, но как бы то ни было отрочество мое и юность прошли в окружении множества всяческих чудаков.
К разного рода чудачеству относились тогда вполне благосклонно. Терпели даже злых чудаков,— которых, впрочем, было гораздо меньше, чем добрых. Художественная интеллигенция тех времен склонна была рассматривать чудачество как особо ценную эстетическую категорию. Чудачеством в той или иной степени отмечены работы многих деятелей искусств того времени. Разве не сплошным чудачеством было, например, все, что делал и писал Велимир Хлебников, Председатель Земного Шара? Разве весь русский футуризм, возникший перед первой мировой войной и доживший до середины двадцатых годов, не воспринимался прежде всего как чудачество? Разве мало чудачества было в постановках Мейерхольда? А имажинисты, ничевоки? А художники тех лет — чудачество на чудачестве! Виктор Шкловский в 1920 году провозгласил теорию «остранения», суть которой заключалась в том, что всякое произведение искусства, для того чтобы оно воспринималось художественно, должно быть странным. Все не странное казалось банальным, мещанским, обывательским. Только чудаческое, эксцентрическое признавалось новым и революционным. Советское киноискусство, едва родившись, тоже начало с того, что провозгласило эксцентризм основным своим принципом. Двое юных талантливейших кинорежиссеров, Козинцев и Трауберг, столько сделавших впоследствии для развития советского кино, основали группу ФЭКС – «Фабрику эксцентризма» – и выпускали фильмы, полные самых причудливых нелепостей.