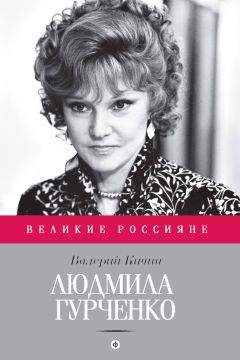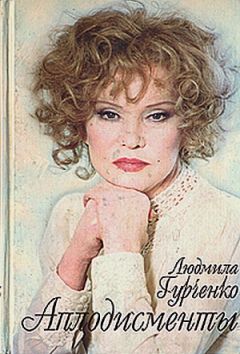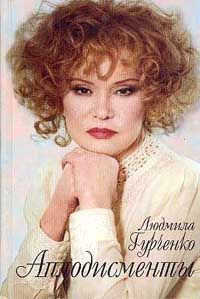Валерий Кичин - Людмила Гурченко
Тема эта — поиски нравственного родства. Мы все время ищем: что толкает Платона и Веру друг к другу? Что их объединяет и делает в конечном итоге друг другу — необходимыми? Ведь они такие разные. Жизнь, которую ведет Платон у себя в столице, кажется вокзальной официантке из Заступинска сладким сном: гастроли, подруга в Алжир улетает, жену по телевизору показывают — «ой, для меня все это… прямо как жизнь на Луне… А я чаевые беру, гарниры со столов собираю, каждый третий норовит… с нами, официантками, не церемонятся… вот и вы уже стали мне «тыкать»…».
И все-таки в этом их нехитром празднике, в этом вечере за ресторанным столиком, где она — впервые — гостья, и ее обслуживают, и с ней танцуют — есть что-то настоящее, щемяще горькое. Это «что-то» уже давно истребило в их отношениях всякий вкус флирта и даже рискованную, уязвимую для строгих ревнителей нравственности сцену в пустом ночном вагоне позволяет нам принять с пониманием и острым сочувствием.
Оба несчастны, оба одиноки — мы понимаем. Не потому, что нам это сообщили, — нам это дали почувствовать. И не текстом, фабулой, намеком — структурой и развитием характеров, «подводным течением» ролей. Всей атмосферой, обволакивающей фильм, — вокзальности, транзитности, бездомности, неустроенности. Вокзал словно бросает свою тень на всю их жизнь — и Верину в ее вечно переполненном, грохочущем музыкой и вагонным перестуком ресторане, и Платонову в его непонятных, сияющих, но явно чем-то отравленных эмпиреях. Они ищут друг друга, как ищут пристанище истосковавшиеся по дому путники.
Откуда взялась эта метафора в фильме? Почему вокзал стал не просто местом действия, но почти символом?
Здесь и начинает работать система нравственных оценок, которые мы даем в фильме героям и их «окружению». Героев резко выделяет их совестливость. Она просвечивает и пробивается к нашему сознанию через профессиональную хамоватость Веры, через всю ее повадку «независимой женщины», через загадочность Платона, чье неблагополучие тоже не сразу нам открывается.
Совестливость.
Пока мы следим за тем, как главные герои тоже пробиваются друг к другу сквозь разнообразные маски, словно навсегда приставшие к лицу, — типичные, знакомые защитные маски, не выражающие, а скрывающие суть человека — пока мы следим за этим, то и мудреем вместе с героями, учимся быть внимательней. Начинаем, например, различать в мельтешне вокзального ресторана лица немолодых его «девушек»— и угадывать за ними судьбы. И вдруг западет в душу эпизодическая Виолетта, так проникновенно сыгранная Ольгой Волковой. За безликой «социальной категорией», за стандартной профессией встают живые люди. И мы теперь им сочувствуем.
И наоборот — сочно, концертно явленные нам типы: ветреный Верин дружок Андрей, сыгранный Никитой Михалковым или дорвавшаяся до мировой видеомагнитофонной культуры спекулянтка, персонаж Нонны Мордюковой, — с течением фильма растворяются в нашей памяти в некую обобщенную плазму; симпатии, которые мы неизбежно испытываем к блестяще играющим эти роли любимым актерам, теперь уже, постфактум, не мешают нам осознать этих персонажей как реальную общественную силу — силу, противостоящую героям. И свершают этот поворот в нашем сознании уже не Михалков и не Мордюкова — они сыграли и исчезли, — а опять-таки Гурченко и Басилашвили. Это их героям одиноко и неуютно в кругу персонажей, научившихся в каждом случае непременно урвать свой кусок. Причем каждый тут защищает чистоту души по-своему. Официантка — принимает общую игру, хамит клиентам с принятой ныне профессиональной изысканностью, ловит на ходу мгновения случайного бабьего счастья за неимением счастья стабильного и настоящего, но, подобно Рите из «Любимой женщины…», хранит нетронутый уголок для своего Гаврилова. И когда приходит любовь, то мы поймем, что ее маска помогла ей сохранить душевную целомудренность.
Что же касается Платона, то и он в той, неведомой нам прошлой своей жизни попросту осуществляет рыцарский долг, берет на себя чужую вину и, свершив этот никем не оцененный подвиг, должен за него поплатиться — идет под суд в забвении. Его Дульсинее оказались неведомы подобные нравственные высоты.
Сочувствия он дождется только от случайно встреченной Веры.
Она и пойдет за ним, как жена декабриста, далеко, в места заключения.
Все неровности фильма позади. Финальные эпизоды сыграны и сняты словно на одном дыхании. Минуты высокого волнения, которые мы переживаем в зале, достигнуты не патетикой и не эмоциональным фортиссимо, к которому, разогнавшись, непременно пришли бы в этом мелодраматическом витке сюжета художники менее чуткие и опытные.
Фильм Рязанова, напротив, стихает. Прежде Гурченко играла с почти эстрадной броскостью, ее Вера то эффектно проходила по перрону, победно покачивая бедрами, то дурным голосом орала на клиентов, чтоб платили за обед, и мы понимали, что эта женщина тоже напялила на себя непробиваемый кокон и тоже ждет мига, чтобы «оттаять». «Оттаивала», и появлялась надежда, и походка становилась полетной, и фурия преображалась в принцессу, и фильм позволял себе (не слишком удачно, по-моему) чуть поиграть в эту сказку, когда Платон с торжеством вез Веру по городу на багажной тележке, как в триумфальной колеснице…
Теперь все тихо. Молчаливо. Огромные паузы. Он, отпущенный из колонии в соседнюю деревушку до утренней поверки, нерешительно входит в избу, и ему открывается дивная, давно не виденная картина: уютно накрытый стол, горка пирогов на тарелке, апельсины. Он еще ничего не понимает, соображает только, что — пироги, апельсины, завтра их не будет. Автоматически, воровато оглянувшись, кладет в карман апельсин. Мало — другой. Семь бед — один ответ, принимается есть пироги. Сидит, жует, сгорбился, и нет уже ничего в этой огрубевшей, словно коркой покрывшейся фигуре от былого Платона, от его изысканной интеллигентности.
Тут и входит она. Долго стоит прислонившись к косяку, молча смотрит на сгорбленную спину, на волосы ежиком, на эту чудовищную перемену.
Обернулся — почувствовал что-то. Глядит тупо, без удивления, вообще без выражения. Потом снова принимается жевать.
Вот уж не одну минуту идет эпизод, и никто слова не сказал, но мы все подробно читаем, всю партитуру чувств. Новое состояние героини, новое лицо: что же делать, неужели тогда, на вокзале, был мираж? Ведь чужой совсем человек. Она рвалась к нему, ехала за тридевять земель, она точно знала — зачем. А теперь непонятно — что делать. Что сказать — непонятно.
И тогда, все так же молча, Вера принимается делать то, что должна делать женщина, когда мужчина голоден. Он очень изголодался, его надо сначала накормить, а там будет видно. Срывается с места, начинает хлопотать, наливает борщ, достает из-под перины кастрюлю с котлетами, проверяет озабоченно, теплые ли. И пока достает их и пробует — он уж съел свой борщ и молча сидит, держит перед грудью тарелку, просит добавки.