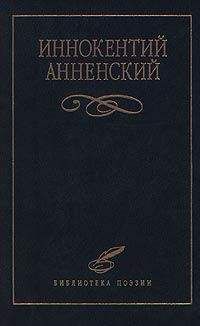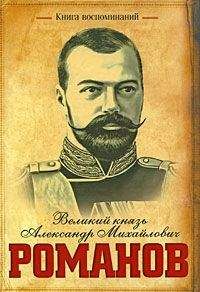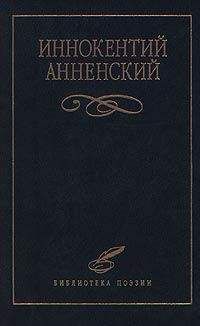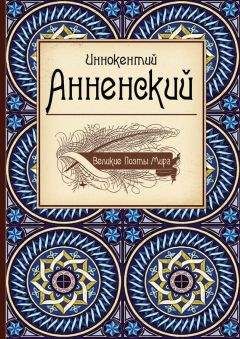Повесть моей жизни. Воспоминания. 1880 - 1909 - Богданович Татьяна Александровна
Иногда, правда, за столом завязывался на время общий разговор. Вспоминаю один такой более удачный журфикс. Кто именно на нем присутствовал, кроме супругов Мережковских, я уж теперь не помню.
Эффектная Зинаида Николаевна Гиппиус, с ярким, явно искусственным румянцем, большими подведенными глазами и пышными волосами, удивительного медно-золотистого цвета, продолжала развивать свою идею бессмертия. Разговор начался еще до чая, и я не слышала его начала. Но выходило так, что в загробном мире человек будет вести существование, очень сходное с нашей земной жизнью, только лишенной разных прозаических неприятностей, портящих нам наше земное странствие.
Большинство, не слышавших, как и я, начала разговора, с недоумением переглядывались. Д. С. Мережковский, сидевший на другом конце стола, подметил мелькавшие кое у кого улыбки, и, воспользовавшись первой паузой, обратился к Зинаиде Николаевне:
— Зиночка, ты говоришь настолько абстрактно, что это звучит даже слишком конкретно. Не всем доступно понимание таких глубин.
Мне, как и многим другим, с трудом удалось подавить улыбку.
Зинаида Николаевна презрительно поджала губы. Разговор принял другое направление, но самая фраза Д. С. Мережковского отчетливо запечатлелась в моей памяти.
Несколько позже, на собраниях литературного общества мне приходилось довольно часто встречать Мережковских, и З. Н. Гиппиус всегда удивляла меня. В ней чувствовался человек, настолько искусственно себя создававший, что, по-видимому, она и сама утратила представление, что в ней от природы, от собственной сущности, а что создано преднамеренно, потому что казалось ей более новым, оригинальным и интересным. При этом как женщина, несомненно, умная, она в совершенстве выдерживала взятую на себя роль и никогда не сбивалась с тона.
Сам Мережковский, мне кажется, менее талантливый, чем его жена, благодаря своей трудоспособности и целеустремленности оставил в литературе более заметный след, чем она. Полагавшиеся ему по штату кривляния стерлись и позабылись, а исторические романы, явившиеся в результате добросовестного изучения источников, остались и до сих пор читаются с интересом, особенно, если откинуть неизбежные «бездны».
Возвращаясь к журфиксам в «Мире Божьем», приходиться признаться, что они не удались. На них приходило все меньше народа, никакого объединения сотрудников с редакцией не получалось, и, мало-помалу, они умерли естественной смертью.
Тогда я как-то не задумывалась над причиной этого. Мне просто казалось, что Александру Аркадьевну они перестали интересовать, и она прекратила их.
Но позже я поняла, что причина лежала глубже. В «Мире Божьем» редакционного ядра по существу не было. Было два человека, Ангел Иванович, материалист и марксист, и Александра Аркадьевна, умная и талантливая женщина, но глубоко равнодушная и к марксизму, и к народничеству. Из ближайших сотрудников марксистами именовали себя двое — М. И. Туган-Барановский и П. Б. Струве.
Ближайшее будущее ясно показало цену этого марксизма. А рядом с ними печатались декаденты-идеалисты Мережковские. Правда, в те времена беллетристы не считались связанными направлением, но фальшивость этой точки зрения уже начала тогда ясно чувствоваться.
Направление журнала проявлялось, главным образом, в «Критических заметках» А. И. Богдановича, именно в его страстной полемике с Михайловским.
В «Русском богатстве» было другое. Там собрались и объединились «последние могикане» умирающего народничества и изо всех сил старались поддерживать «своих». Беллетристы не отставали от публицистов. Нельзя сказать, чтобы это особенно благоприятно влияло на качество беллетристики, зато, несомненно, содействовало единству журнальной семьи.
Стоило перешагнуть порог журнального помещения в один из четвергов, чтобы почувствовать себя перенесенным на два-три десятилетия назад: во всем ощущался неуловимый привкус какого-то прекраснодушия и идеализма.
Я по родственным отношениям была вхожа в обе полемизировавшие между собой редакции. Когда я бывала в редакции «Русского богатства», иногда мной овладевало неудержимое желание чуточку подшутить над этими милейшими людьми, которых лично я очень любила, хотя и считала, что они безуспешно пытаются воскресить идеи прошлого.
Да и читатели их тоже принадлежали прошлому. Недаром подписка на «Русское богатство», поднявшаяся быстро до очень солидной цифры, больше уже не поднималась, несмотря на участие в редакции чрезвычайно популярных писателей, Михайловского и Короленко, и постоянное исключительное сотрудничество Короленко в беллетристическом отделе журнала.
Помню, раз я встретила на четверге знакомого мне по Нижнему земского доктора С. Ф. Дмитриева, человека еще молодого, но, несомненно, вышедшего из недр 70-х годов.
Он впервые приехал в Петербург и тоже впервые очутился в редакции высоко ценимого им журнала. Мы с ним сидели на диванчике, и он изливал мне свои чувства к тем людям, которые продолжают высоко держать знамя единоспасающего народничества.
— Вы не представляете себе, Татьяна Александровна, каким событием, каким праздником является для нас в провинции появление каждой новой книжки «Русского богатства»! — с пафосом сказал он. — Мы собираемся вместе, читаем, обсуждаем…
Меня это чрезвычайно рассмешило. Чтобы появление этой книжки, серенькой и по внешнему виду, да и по внутреннему содержанию, исключая, конечно, очерки и рассказы Короленко, могло быть где-нибудь событием, — этому трудно было поверить.
Я подозвала проходившего по комнате А. В. Пешехонова и сказала ему:
— Алексей Васильевич, закажите мраморную доску, повесьте в редакции и напечатайте на ней золотыми буквами фамилию С. Ф. Дмитриева. Он только что сказал мне, что у них, в Нижегородской губернии, получение очередного номера «Русского богатства» является событием, праздником.
— Ну, так что же? — несколько обиженно ответил Пешехонов.
— Это для вас, Татьяна Александровна, в вашем «Мире Божьем», нет ничего святого…
— Я и не знала до сих пор, — перебила я его, — что «Русское богатство» причислено теперь к святому писанию…
С. Ф. Дмитриев смущенно прислушивался к нашей шутливой перепалке. Ему это казалось посягательством на самые возвышенные идеалы.
Помимо Михайловского, наиболее последовательными народниками в редакции были Пешехонов и Мякотин, оба завзятые полемисты. При этом Пешехонов, человек по характеру мягкий и добрый, вел полемику в спокойном и миролюбивом тоне. Но Мякотин был всегда в высшей степени придирчив и язвителен.
Дядя говорил, что его должны были бы звать не Венедикт Мякотин, а Меледикт Коркин (Венедикт по латыни — благословенный, Меледикт — проклинаемый).
Но самым ярким и жестоким полемистом был, конечно, Михайловский.
Короленко, как и дядя, не считали себя народниками, хотя все же к народниками они были значительно ближе, чем к марксистам. Ни тот, ни другой в полемике не принимали участия. Но со своими сотоварищами по редакции у них обоих, особенно у дяди, были самые близкие, дружеские отношения.
Собрания редакционной коллегии, в которой участвовали Михайловский, Короленко, Мякотин, Горнфельд, проходили обычно у нас. Помещение редакции было открыто для всех сотрудников, туда постоянно кто-нибудь заходил, и вести серьезные обсуждения состава книжек там было неудобно.
Аркадий Григорьевич Горнфельд, редактировавший вместе с Короленко беллетристический отдел журнала, казался мне, помимо дяди и Короленко, наиболее интересным из сотрудников «Русского богатства». Он вообще был далек и от народничества, и от марксизма. Литературные и научные интересы преобладали в нем над общественно-политическими. Горнфельд был человек совершенно исключительный. Горбатый от рождения, с искривленными ногами, он еле мог с помощью палочки передвигаться по комнате. Более длительные передвижения представлялись для него совершенно невозможными. Но ни тени горечи или озлобления, обычно свойственные людям, так жестоко обиженным судьбой, у него не было. Мало того, он чрезвычайно живо и сочувственно интересовался сторонами жизни, ему абсолютно недоступными. Та некая связанность, обычно ощущаемая в разговоре с калеками, из боязни как-нибудь обидеть их, коснувшись случайно болезненно задевающей их темы, никогда не возникала в разговоре с Горнфельдом. Его все интересовало, он на все живо отзывался. До войны 1914 года он каждое лето совершал путешествие за границу, в один из южных курортов Франции или Италии, наслаждался, сидя в кресле, видом моря, океана или гор.