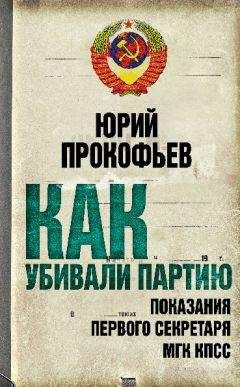Карен Брутенц - Тридцать лет на Cтарой площади
И все же некоторые члены нашего руководства, прежде всего Пономарев, не хотели мириться с очевидным и отказаться от планов созыва нового совещания. К тому же «наверху», очевидно, были люди, которые выговаривали Борису Николаевичу: «Что же, не можешь навести порядок?» И нам вновь и вновь поручали проанализировать возможности созыва совещания. И мы «изучали», совещались с научными работниками, писали записки, пытались нащупать для него основу… Так тянулось до 1985 года, когда, наконец, окончательно был сделан трезвый вывод: ничего из этого не получится, не стоит и стараться.
В процессе подготовки к совещанию 1969 года и к некоторым другим международным встречам мы в значительной мере опирались на венгерских коллег, если не сказать, их использовали. Многие подготовительные заседания происходили в Будапеште. Венгры нередко играли роль промежуточного и даже посреднического звена, порой озвучивали наши предложения. Кстати, это тоже служило симптомом известной утраты КПСС прежних позиций: теперь мы нередко предпочитали выступать не с открытым забралом, а действовать окольным путем.
Советские представители тесно сотрудничали с покойными 3. Комочиным, в ту пору секретарем ЦК ВСРП, и Немешем, членом Политбюро ЦК ВСРП, а также с Д. Хорном (до мая прошлого года премьер?министр Венгрии), М. Сюрешем (до недавнего времени председатель Национального собрания Венгрии), которые тогда были на скромных ролях в Международном отделе ЦК ВСРП, и многими другими. Венгры мне нравились своей разумностью и своей повадкой, стилем. Они по отношению к нам держались лояльно, но им удавалось оставаться самими собой, вести более гибкую линию и выглядеть в глазах многих если не нейтральной, то достойной доверия конструктивной силой. В советском руководстве и высшей номенклатуре к венграм, насколько могу судить, относились по?разному: кто ни на грош им не доверял и стремился обличать их ревизионизм, а кто с интересом приглядывался к их опыту.
Мне до сих пор невдомек, почему венгры, где наше вмешательство было более брутальным, чем в Чехословакии, сумели потом проводить гибкую, во многом «ревизионистскую» линию, в то время как у чехов все обстояло совсем ииаче. Сказалось ли то, что вмешательство в Венгрии произошло во времена Хрущева, когда он сам был не чужд новаций и понимал, что по?прежнему вести дело нельзя, а его преемники действовали инерционно и ничего не хотели менять, или тут сыграли свою роль особенности национального характера и личность лидера, а может, и все это, вместе взятое?
Тесно сотрудничали мы и с коллегами из ГДР. Хорошо информированные, дисциплинированные, четкие и пунктуальные, они вместе с тем придерживались жестких подходов. Гибкость им скорее была чужда, во всяком случае, они не были к ней склонны. Это, видимо, отражало общий политический климат в ГДР. Немцы сами подтрунивали над некоторой своей прямолинейностью, жесткостью и заорганизованностью, рассказывали на этот счет анекдоты. Вот один из них, относящийся к середине 80?х годов, о конце света. Бог сказал Рейгану и Горбачеву: «Я вижу, вы не можете жить мирно, поэтому будет конец света». Бог облетает землю, так сказать, инспектирует ее и наблюдает, кто и как готовится к предстоящему событию. Американцы безумствуют, русские вовсю пьют водку. А гедеэровцы стройными колоннами маршируют под транспарантами: «Встретим конец света новыми успехами в повышении производительности труда». Следовавшие официальной линии и подчеркнутолояльные немцы, вместе с тем (впрочем, как и венгры), мне кажется, внутренне относились к нам не без чувства превосходства.
Выделялись болгары, они были мне симпатичны и в политическом, и в личном плане. Во многих отношениях болгарские коллеги фактически принимали советское руководство и делали это искренне, не кривя душой, не насилуя себя. Они отнюдь не смотрели на нас снизу вверх, блюли свое достоинство и предпочитали недогматические позиции. Однако мы, особенно на уровне руководства, далеко не всегда были достаточно внимательны к болгарам. Нередко действовал близоруко?потребительский принцип: «эти» и так будут с нами.
Когда появился феномен еврокоммунизма, это, естественно, вызвало у нашего руководства крайне негативную реакцию. Он воспринимался в первую очередь под углом зрения усиления критического отношения к нашей политике и даже к нашей системе. Глубокие внутренние причины возникновения еврокоммунизма наши лидеры были склонны игнорировать. Между тем речь шла о попытке некоторых партий осмыслить изменившуюся ситуацию в своих странах и в Европе, сделать необходимые политические и теоретические выводы. Ведь уже возник разительный контраст между идеологическим арсеналом и реальными условиями деятельности этих партий – крупными экономическими, социальными и технологическими сдвигами, происшедшими к 70?м годам в мире и Европе. Они и дали главные импульсы к возникновению еврокоммунизма.
В Международном отделе это видели и стремились скорректировать нашу позицию в более разумную сторону. В своем анализе и предложениях мы старались сконцентрировать внимание руководства на главном, на факторах, обусловивших этот сдвиг, а не на сопутствующих моментах – усилении критики СССР.
Наши усилия в лучшем случае приносили лишь частичный результат. Высшее руководство в целом было не готово подойти проблеме достаточно уравновешенно. А Борис Николаевич Пономарев воспринял еврокоммунизм как прокол по своему ведомству, горел желанием, особенно первоначально, дать «решительный отпор», хотя это часто приносило обратный эффект, инициировать «правильные» выступления в самих «еврокоммунистических» партиях, «поставить на место» их лидеров. Угождая, как считал, верхам, он хотел показать, что принимает меры…
Но проблема не сводилась к этому. Пономареву была свойственна своеобразная профессиональная узость, хотя временами казалось, что он многое или даже все понимает. Считая, что несет ответственность за коммунистическое движение, Борис Николаевич толковал ее в традиционно?дирижерском духе, как некий петух, вокруг которого должна собираться стайка курочек. И не без поддержки некоторых работников отдела бурно и вполне искренне реагировал на всякие еретические отклонения от верности Советскому Союзу, охотно прибегая к испытанному методу противодействия через создание оппозиционных групп или даже параллельных партий.
Между тем такая линия была не только несовместимой с прокламируемыми формами межпартийных отношений, но и неумной, неэффективной. В отделе многие это сознавали. Вспоминаю одно и: совещаний Пономарева со своими заместителями зимой 1981 года. Ссылаясь на телеграммы из Хельсинки, один из наших коллег требовал наращивания помощи «параллельной» (просоветской) Компартии Финляндии. Уже тогда я не мог отделаться от ощущения (да и сейчас подозреваю), что эти шифровки, где красочно описывались происки империализма против этой, «хорошей», партии и ренегатская позиция другой, «плохой», писались не без участия наших товарищей. Упоминаю об этом лишь для того, чтобы заметить: на решение и таких вопросов иногда влияли даже не ведомственные, а еще более мелкие интересы. Так вот, на совещании А. Черняев, заместитель Пономарева, определенно высказался против подобной линии вообще. Хотя речь шла не о моем регионе (развивающиеся страны), я, кстати единственный, активно его поддержал. Причем, признаюсь, ссылался не на этические соображения, а на бесплодность этой политики, проводившейся уже ряд лет. Борис Николаевич промолчал, и разговор тогда кончился вничью.