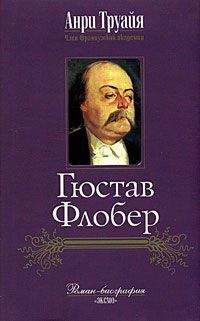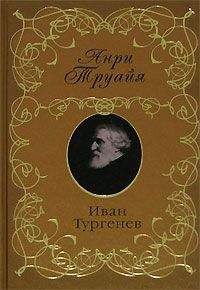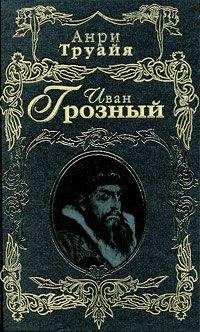Анри Труайя - Ги де Мопассан
В Алжире Ги очарован «уникальным привкусом» этой страны и вместе с тем разочарован отсутствием комфорта в жилищах, которые ему предлагались. «Мы переходили из гостиницы в гостиницу, сетуя на номера и на кормежку, – пишет он матери. – Шум алжирского порта у меня под окнами напомнил мне авеню Виктора Гюго – но чудовищную авеню Виктора Гюго, с гудками паровозов, сиренами трансатлантических пароходов, паровыми кранами и арабами-докерами, нагружающими и разгружающими пакетботы» (октябрь 1887 г.). Немного времени спустя он снимает двухкомнатную квартиру на рю Ледрю-Роллен, совершает ряд прогулок под стать туристу, любуется кедровым лесом, но более всего интересуется мусульманскими женщинами, чьи горящие из-под покрывала глаза чаруют его. Возвратившись к себе в жилице, он сражается с комарами, которые не дают ему сомкнуть глаз. Но еще хуже мигрени, становящиеся все жесточе в продолжение ночи. У него больные глаза, и тем не менее он порывается видеть солнце, безмятежную ослепляющую красоту пустыни. «Только что отшагал на собственных ногах прекрасную экскурсию по дикой стране, похожей на ковер из львиных шкур, – пишет он врачу Анри Казалису, прославившемуся как поэт-символист под псевдонимом Жан Лаор. – Я повидал неизведанный уголок Алжира, где наткнулся на чудесные овраги в сказочных девственных лесах». Писатель посещает Константин, Бискру, а достигнув горячих вод Хаммам-Рира, восхищается еще больше, о чем с таким лиризмом поведал Женевьеве Стро: «Я упиваюсь воздухом, приходящим из пустыни, и поглощаю одиночество. Это и хорошо, и грустно. Иногда по вечерам я захожу в африканские постоялые дворы – одна-единственная комната, выбеленная известью, – где я ощущаю на сердце тяжесть расстояний, отделяющих меня от всех, кого я знаю и кого люблю, ибо я люблю их. На другой день я так же отдыхал до полуночи у дверей обветшалого караван-сарая, где вкушал яства, которым не мог дать определения, и пил воду, о которой мне более и вспоминать не хочется. Издали, с бесконечных расстояний, доносился лай собак, тявканье шакалов, вой гиен. И эти звуки, под небом с пламенеющими звездами, этими огромными, чудесными, бесчисленными звездами Африки, были столь заунывными и так навевали ощущение одиночества и невозможности возвращения, что я почувствовал холод в спине» (письмо начала 1888 г.).
Более умеренными будут слова, которые он скажет матери: «Я и впрямь начинаю чувствовать благородное влияние жары после небольших проблем с акклиматизацией. Но пробыть здесь мне предстоит долго». Впрочем, от этой последней мысли он вскоре отказался и переехал поездом в Тунис. Там он дает себе отдых от накопившейся усталости, принимает сеансы массажа у здоровенного негра атлетического сложения, нанимает коляску для прогулок по окрестностям, и ему даже чудится, что он отыскал тень Флобера в руинах Карфагена.[74] Ну и, конечно, Ги радуется, навестив местную знаменитость – «толстуху туниску» в 120 кило весу, с тремя дочерьми: «Три девицы, три сестры… проделывали свои непристойные кривляния под благосклонным оком матери…»
Впрочем, вся эта восточная экзотика не чрезмерно позабавила Мопассана, и он уже с чувством ностальгии подумывал о женщинах, которых оставил во Франции. Чары одной из них оказывали на Мопассана особое воздействие – на таком далеком расстоянии! Имя чаровницы до нас не дошло, но чувство, которое он к ней испытывал, было таковым, что он – враг всякой продолжительной связи – какое-то мгновение подумывает о том, чтобы сделать ее постоянной спутницей жизни. «Со вчерашнего вечера я самозабвенно думаю о Вас, – пишет он ей из Туниса. – В мое сердце внезапно ворвалось безрассудное желание вновь увидеть Вас, и немедленно, здесь, перед собою. И я готов переплыть через моря, преодолеть горы, оставить за своей спиной города – и все ради того, чтобы положить руку на Ваше плечо, вдохнуть запах Ваших волос. Ну, а сами-то Вы разве не ощущаете, как это исходящее от меня желание бродит вокруг Вас, ищет Вас, умоляет Вас в ночной тиши? Мне более всего хочется увидеть Ваши глаза. Ваши ласковые глаза. Ну почему это наша первая мысль – всегда о глазах женщины, которую мы любим? Как неотступно преследуют они нас, как они делают нас счастливыми или несчастливыми, эти маленькие ясные, непроницаемые и глубокие загадки, эти маленькие синие, черные или зеленые пятнышки, которые, не меняясь ни в форме, ни в цвете, попеременно выражают то любовь, то безразличие, то ненависть; в них читается то утешающая ласка, то леденящий ужас – и все это куда красноречивее, чем самые обильные слова и самые выразительные жесты. Через несколько недель я покину Африку. Я снова увижу Вас. Вы обрадуетесь мне, не так ли, моя обожаемая?» Получил ли Мопассан ответ на это пламенное письмо? При любых обстоятельствах, «обожаемая» предусмотрительно предпочла остаться в тени. Она присоединилась к когорте всех этих неведомых женщин, которыми Мопассан желал обладать, а может быть, и обладал фактически, но которые так и не оставили следа в истории.
Однако в действительности не столько таинственная незнакомка явилась причиной, побудившей Ги возвратиться в Париж, сколько предстоявшая публикация «Пьера и Жана» и африканских впечатлений. «Я путешествую и делаю заметки, – пишет он из Туниса своей кузине Люси ле Пуатевен. – Я заканчиваю мой роман, сочиняю повествование о путешествии; а когда наступает вечер, я совершенно не способен чем-либо заняться» (письмо от 3 января 1888 г.). Несколько недель спустя он со всею откровенностью поведает матери все, что думает о своем новом сочинении: «У „Пьера и Жана“ будет литературный успех, но не будет успеха продаж. Я уверен, что книга хорошая… но она жестока, что помешает ее продажам» (конец сентября 1887 г.). Разумеется, он уже выбрал издателя. В намерения автора входило покарать Авара, который постоянно задерживал выплату гонорара и не очень-то эффективно занимался распределением тиража. «Не хочу создавать впечатление, будто играю с вами в кошки-мышки, – объявил Мопассан Авару без обиняков, – поэтому лучше сам скажу вам, что хочу передать Оллендорфу небольшой роман, который давно был ему обещан» (письмо от 19 сентября 1887 г.). А месяц спустя он загоняет гвоздь еще глубже: «Вы только что снова поставили меня в высшей степени затруднительное положение, и на сей раз я нахожу, что это слишком… Мне придется требовать у Оллендорфа, чтобы тот выслал мне 2000 франков телеграфом. Мало того, что вы скверно продаете книги, но еще и не отличаетесь точностью счетов; а для меня это весьма существенно, о чем я вам говорил не раз. Вот только что я получил от Марпона извещение о том, что „Туан“ и „Сказки дня и ночи“ разошлись – первый десятой тысячей, второй – одиннадцатой. И это при том, что это две мои самые скверные книги, выпущенные в продажу по пяти франков, без всякой рекламы. Ну, а „Паран“ находится теперь на 11-й тысяче, „Орля“ – на 13-й. Когда я сравниваю это с моими лучшими книгами, а именно: „Заведение Телье“, „Мадемуазель Фифи“, „Иветта“, „Маленькая Рок“ – я вынужден констатировать, что ваши продажи не выдерживают никакой критики».