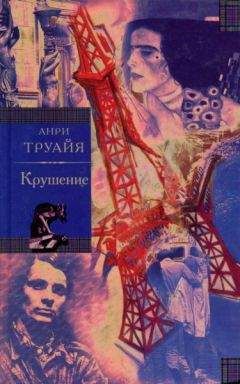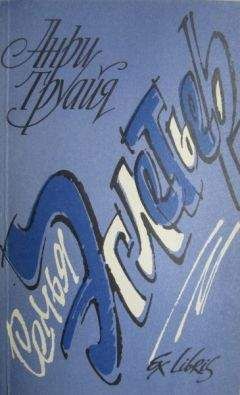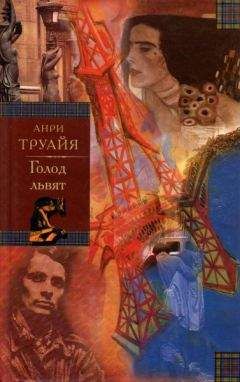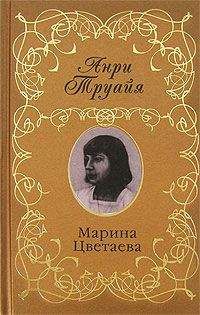Анри Труайя - Бодлер
В тот же день был вынесен приговор. Бодлера приговорили к штрафу в триста франков, Пуле-Маласси и де Бруаза — к штрафу в сто франков каждого. Кроме того, суд постановил запретить стихи, показавшиеся ему наиболее одиозными: «Украшения», «Лету», «Слишком веселой», «Проклятых женщин», «Лесбос» и «Метаморфозы Вампира»[52]. По окончании суда Бодлер не знал, радоваться ему или возмущаться: книга не была запрещена целиком, но оказалась изуродована изъятием нескольких незаменимых строф. Выходя из зала заседаний и видя мрачное лицо друга, Асселино тихо его спросил: «Вы ожидали, что вас оправдают?» — «Оправдают! — ответил он мне. — Я ожидал, что передо мной извинятся за попрание чести!» Бодлеру этот суд всегда представлялся недоразумением.
Бодлер не отказался от своей идеи: искусство не имеет ничего общего с моралью. Тот, кто пишет для поучения современников, может быть отличным проповедником, но непременно окажется плохим поэтом. Вынесенный Бодлеру приговор привел к тому, что поэт полностью утратил доверие к правосудию в своей стране и подавать апелляцию отказался. Чтобы спасти сборник, Пуле-Маласси вырвал из него страницы с запрещенными стихами и отдал книгу в типографию, чтобы там перебрали соседние страницы, затронутые этой «хирургической операцией»[53]. А безденежный автор обратился к императрице с просьбой помочь ему уплатить штраф, ибо, как писал Бодлер, эта сумма «превосходит возможности общеизвестной бедности поэтов». В январе 1858 года сумму уменьшили с 300 до 50 франков — законная компенсация за дискредитацию виновного.
Еще более неожиданной оказалась компенсация, которую приготовила своему обожателю г-жа Сабатье. После его письма от 18 августа она раздумывала о том, каким способом его утешить после всех этих неприятностей с правосудием. И приняла решение, подобающее женщине, уверенной в своей неотразимости: отдаться Бодлеру, чтобы вознаградить поэта за верность и излечить его от меланхолии. Когда она сообщила ему об этом, он пришел в замешательство. Ужасно смущенный милостью, которой не добивался, он не мог отказаться, чтобы не прослыть грубым и невоспитанным.
Решительная встреча произошла в обстановке величайшей секретности. Наедине с этой женщиной, которая давно уже не была ни его кумиром, ни прежней элегантной хозяйкой ужинов на улице Фрошо, а превратилась в располневшую даму с тяжелым бюстом и объемистыми бедрами, Бодлер почувствовал себя парализованным с головы до ног. Она оказалась слишком мясиста, чересчур смешлива и, на его взгляд, чересчур напориста. Впору было опасаться, удастся ли ему настроиться. Ему хотелось просто убежать. Но он выполнил то, что от него требовалось. Увы, без энтузиазма! Однако она была довольна. Искренне или нет, но она написала ему после этого события: «Сегодня я чувствую себя спокойнее. Лучше ощущаю благотворное влияние нашего вечера в четверг. Могу сказать без опасения услышать от тебя упрек в преувеличении, что я самая счастливая женщина на свете, что никогда еще я не ощущала с такой остротой, как сейчас, что люблю тебя, что никогда еще ты не представлялся мне таким красивым и таким желанным, таким обожаемым моим другом. Если хочешь, можешь красоваться и распускать хвост колесом, но только не смотрись в зеркало: что бы ты ни делал, ты никогда не придашь себе то выражение, какое я видела на твоем липе одну лишь секунду. И теперь, что бы ни случилось, я буду видеть тебя только таким — Шарлем, какого я люблю. Можешь сколько угодно сжимать губы и хмурить брови, меня это не испугает, я закрою глаза и увижу другое твое лицо». В следующем письме она обвиняла себя в «абсолютной потере стыда» и писала: «Мне кажется, что я твоя с первого же дня, как тебя увидела. Делай что хочешь, но я твоя и душой, и сердцем, и телом».
Такая вулканическая страсть заставила Бодлера отпрянуть назад. Уж не собирается ли Аполлония порвать с богачом Моссельманом и сойтись с ним, когда у него ни гроша, а сам он, как никогда поглощенный работой, мечтает только об уединении? Опасаясь такого развития событий, он стал осторожно отступать: «…у меня нервы в ужасном состоянии, просто хоть криком кричи, — ответил он ей, — и я, непонятно почему, проснулся в отвратительном настроении, которое не покидает меня со вчерашнего вечера, проведенного у Вас. […] никто же не наказывает за нарушение клятв Дружбы и любви. Вот я и сказал себе вчера: Вы меня забудете, Вы измените мне; тот, кто Вас веселит сегодня, Вам быстро надоест. А сегодня я добавляю: только тот будет страдать, кто, как дурак, принимает всерьез дела душевные. Вот видите, прекрасная моя дорогуша, какие отвратительные предрассудки я питаю по отношению к женщинам. Одним словом, у меня нет веры. У Вас прекрасная душа, но это женская душа. Вы видите, как за несколько дней наше положение полностью изменилось. Во-первых, оба мы боимся оскорбить честного человека, счастливого тем, что он любит Вас по-прежнему [Моссельман]. К тому же мы оба боимся нашей собственной грозы, поскольку мы оба знаем (особенно я), что есть узы, которые трудно развязать».
Эта ссылка на Моссельмана, который по-прежнему ей покровительствовал, и на Жанну, отношения с которой Бодлер поддерживал теперь лишь эпизодически, весьма удивила г-жу Сабатье. Для пущей убедительности Шарль принялся рассуждать о странностях своего характера: «И наконец, наконец несколько дней тому назад ты была божеством… Но вот теперь ты женщина. И если, к несчастью для меня, я обрету право ревновать, — как страшно об этом даже просто подумать, а ведь страдания будут невыносимы, потому что Ваши глаза полны любезных улыбок, обращенных ко всем […] Но будь что будет. Я же немного фаталист. Одно только я знаю точно: я боюсь страсти, ибо она мне знакома, вместе со всеми ее издержками […] Боюсь перечитывать письмо, потому что, может быть, мне пришлось бы переписать его, поскольку я не хочу Вас огорчать; кажется, в текст прокралась какая-то гадкая частица моего характера. […] Прощайте, любимая; я немного сержусь на Вас из-за Вашей способности быть всегда очаровательной. Знайте, что, унося с собой аромат Ваших рук и Ваших волос, я унес также желание вернуться. Это какое-то невыносимое наваждение! — Шарль».
Ошарашенная таким холодным душем, г-жа Сабатье тут же ответила: «Вот что, дорогой, хотите, я скажу, какая мысль пришла мне в голову, жестокая и очень болезненная для меня мысль! Просто Вы меня не любите. Отсюда все эти опасения, сомнения по поводу нашей связи, которая в подобных условиях превратилась бы в источник неприятностей для Вас и в непрекращающееся мучение для меня. Разве это не правда? А вот доказательство, оно такое явное, что у меня прямо стынет кровь, и заключено в одной Вашей фразе: „Одним словом, у меня нет веры“. У Вас нет веры? Тогда и любви у Вас нет. Что на это можно сказать? Ведь все ясно. О Боже! Как мучительна эта мысль, и как хотела бы я выплакать ее у тебя на груди! Кажется, мне стало бы легче. В любом случае, я не буду ничего менять в нашей договоренности о завтрашней встрече. Я хочу Вас видеть, хотя бы только для того, чтобы примерить к себе роль подруги. Ах, зачем вы захотели вновь увидеть меня? Ваша очень несчастная подруга».