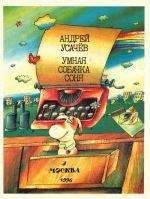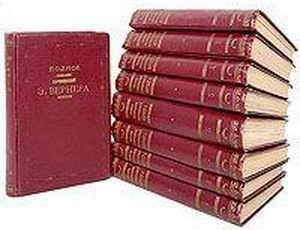Рут Вернер - Соня рапортует
В начале октября, после пребывания в одном из лозаннских пансионов, мы нашли дом вроде того, что был у нас в Закопане, в горах французской Швейцарии на высоте 1200 метров, поблизости от Ко. Далеко внизу на равнине мы видели Монтрё и Женевское озеро с голубой лентой Роны; напротив были французские Альпы, а позади вершина Роше-де-Нэ. Наш новый дом, модернизированная крестьянская усадебка, стоял на холме. Он так и назывался «Кротовый холм». В задней половине дома был хлев с десятком коров, а над ним сеновал. Коровы паслись на сочных лугах повыше дома. Они принадлежали крестьянину Франсуа, который жил в десяти минутах ходьбы от нас. Скоро мы знали каждую корову в лицо, вернее сказать, в морду, и дети дали им имена. Ночами в наши сны врывались то звяканье колокольчика, подвязанного к шее коровы, то сонное мычанье.
В передней части строения было три комнаты. Весной люди приезжали и приходили издалека, чтобы полюбоваться знаменитым полем нарциссов позади нашего дома. Аромат цветов был такой густой, что ночью приходилось закрывать окна. Зимой начинающие лыжники из отелей в Ко практиковались на пологих склонах нашего холма. Тот, кого томила жажда, находил у нас, чем утолить ее, уставшие отдыхали на скамье перед нашим домишком. В прочие времена года здесь, наверху, было как в пустыне. Автомашине приходилось останавливаться в полкилометре от дома, к Кротовому холму вела лишь узенькая, заросшая травой, еле видная тропинка.
По соседству был детский пансион со школьной программой. Я определила туда Мишу. На протяжении двух лет, проведенных в Польше, я занималась с ним сама и теперь преисполнилась гордости, когда оказалось, что по знаниям он намного превосходит своих сверстников. Новый для него французский язык Миша усваивал быстро. В зимнее время он добирался в школу на лыжах через луга, перед уходом я прикрепляла к его куртке карманный фонарь, чтобы он не заблудился в темноте.
На Кротовом холме я установила свой передатчик, которому теперь предстояло перебросить в эфире мост между мною и теми, кто был от меня на расстоянии свыше двух тысяч километров. В комнате имелся встроенный бельевой шкаф. Под самой нижней полкой было пустое пространство, закрытое досками. Мы с Рольфом вытащили нижнюю, доску, на которой стояли мои туфли, и задвинули туда передатчик. Во время работы мне не нужно было вытаскивать его. Оба отверстия для штепсельной вилки, так называемого бананового штепселя, мы замаскировали деревянными затычками, так что они казались просто древесными втулками.
Мне удалось сравнительно быстро приступить к работе, и связь с Москвой была неплохая. Вероятно, к тому времени я и технически кое в чем поднаторела.
Дверь из сеней во втором этаже вела прямо на сеновал. Крестьянин брал сено с краю и никогда не добирался до нашей двери, ключ от которой хранился у меня. Здесь, в сене, я прятала материалы.
Из-письма родителям:
«После чопорного пансиона, где их то и дело одергивали, дети наслаждаются свободой и как сумасшедшие носятся по лугам. Ландшафт у нас здесь такой, каким, собственно говоря, можно наслаждаться только в отпуске или на каникулах, причем не из окна гостиницы, а забравшись куда-нибудь повыше да еще выбрав удачное место для обзора. В повседневной обстановке, когда, скажем, моешь посуду или вытряхиваешь тряпку, которой только что стирала пыль с мебели, этот пейзаж кажется просто нереальным. Па, спасибо за письмо к Б. С визитом подожду до прибытия большого багажа, ибо в нем приедет шикарная шляпа, завернутая в папиросную бумагу».
Под Б. подразумевается некий англичанин, мистер Блеллох, занимавший видное положение в Женеве в Международном бюро труда при Лиге Наций, — полезное для меня знакомство. Познакомилась я и с его женой. Она навещала меня на Кротовом холме, а я заглядывала к ней, когда бывала по делам в Женеве. Впрочем, я охотнее беседовала с ее отцом Робертом Деллом, левобуржуазным журналистом, который, несмотря на почтенный возраст, сохранил темперамент, острый ум и цельность характера. Он писал для «Манчестер гардиан».
Затеряйся строки, в которых говорится об отцовском «письме к Б.», и эта семья не фигурировала бы в моих записках. Я абсолютно забыла о ее существовании и, даже прочтя свое письмо, сначала не могла сообразить, кто такие эти «Б.». Вспомнила я их только, когда в другом письме они были названы полностью.
К сожалению, воспоминаний о других людях, о которых в письмах не говорится, у меня так и не сохранилось.
Среди моих швейцарских знакомых была, в частности, Мари, старший библиотекарь Лиги Наций. Она была словоохотлива, имела массу знакомых, и я кое-что узнавала через нее. Мари дружила с журналистами из разных стран, которые тоже были не прочь поговорить. Именно она познакомила меня с Катей, журналисткой, придерживавшейся левых взглядов. С ней мы подружились. И она и я интересовались политикой и часто спорили по поводу полученных ею известий. Разумеется, она и понятия не имела о том, чем я занимаюсь. Часто, бывая в Женеве, я ночевала у нее, что избавляло меня от необходимости регистрироваться в гостиницах. Типичная для Мари и ее окружения черточка: узнав о моих случайных ночевках у Кати, Мари лукаво спросила: «Так ли уж это безобидно? Ведь у Кати, кажется, всего одна комната с двуспальной кроватью?» Сколь ни была мне противна такая вздорная болтовня, такое истолкование моих визитов в Женеву представлялось мне менее опасным, чем подозрение, больше соответствующее действительности. Справедливости ради, надо отметить, что Мари всегда была готова прийти нам на помощь. Когда понадобилось, она помогла мне получить в Швейцарии гондурасский паспорт, а позднее Лен при ее же содействии обзавелся боливийским паспортом — впрочем, за солидную мзду, выплаченную соответствующим консульствам. Такими возможностями Мари располагала благодаря сотрудничеству в некой еврейской эмигрантской организации, которая находилась под американским влиянием и тяготела к сионизму.
Поздней осенью 1938 года я встретилась в Женеве с Алленом Футом, подпольное имя Джим. Тогда он еще не знал, что ему предстоит поехать в Германию. Его спросили только, готов ли он поработать за границей в условиях, не менее опасных, чем те, в каких он находился, сражаясь в Испании.
В Женеве я виделась с Джимом два или три раза, и каждая встреча продолжалась несколько часов. Такие длительные и насыщенные беседы имели большое значение. Я брала на заметку все: каждое слово, интонацию, движение рук, выражение лица, а после встречи еще долго раздумывала надо всем, что увидела и услышала.
Джим легко схватывал мысль собеседника и задавал дельные вопросы. Он казался находчивым и сообразительным, а для нашей работы это необходимо: значит, не растеряется в необычной ситуации. Свое мужество в борьбе он, должно быть, доказал в Испании, в противном случае его не рекомендовали бы мне для этой новой работы.