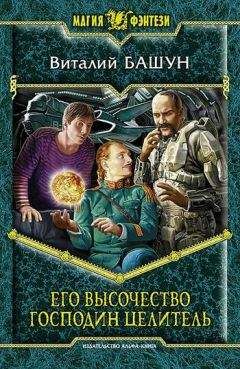Н Скавронский - Очерки Москвы
Вскоре мне пришлось уехать за границу. В шуме европейской жизни мне позабылась скромная жизнь Никона Федоровича; пробыв по преимуществу по Франции и Англии с лишком год, я воротился в Россию и приехал снова на житье в Москву.
По возвращении откуда-нибудь издалека прежде всего всегда хочется видеть старых знакомых, в числе которых я считал и Никона Федоровича.
Как-то под вечер я отправился к нему…
Читатель, вероятно, так и ждет заколоченной лавки, смерти от горя, могилы с деревянным крестом на любимом кладбище старика, на Драгомиловском, но ничего не бывало: старик по-прежнему копошился в своей лавке, но это уже далеко не был прежний Никон Федорыч: он поседел и постарел, кажется, на десять лет. Темно-желтое лицо его, желтизна белков глаз, особенно ярко выступающая от седины волос и бороды, ясно говорили, что пережил в это время старик. В лавке его далеко не было так полно, как прежде, не было и прежней чистоты: все засорилось, замаслилось, появился даже и куль с угольями, чего прежде не допускал старик, и мальчик в лавке был такой неопрятный, и сам Никон Федорыч в замасленном сюртуке — крайне замасленном, и без фартука, одним словом, это был другой человек, в другой обстановке.
— Никон Федорыч, ты ли это?
Он взглянул на меня с каким-то тупым любопытством.
— А, друг… — вымолвил он слабым, как бы разбитым голосом, — откуда это Бог принес?
— Да что ты, болен, что ли, был? — продолжал я спрашивать его. — Да ты и теперь болен…
— Нет, ничего, живем… — говорил он, по-прежнему взявши мою руку в одну из своих и гладя ее другою, — но в руках его не было ни прежней теплоты, ни мягкости, и улыбка, которой он, бывало, улыбался, не освещала по-прежнему его сумрачного лица.
— Ну, как же, в самом деле, живется?
— Да вот, как видишь, ничего…
— Анна-то Тимофеевна жива ли?
— Жива.
— Варенька?..
При этом имени видимо скоплявшиеся в продолжение приведенных расспросов слезы двумя струями покатились из глаз Никона Федорыча.
— Что с тобой? Неужели умерла?
— Нет, жива.
— Ну так что ж с тобой? Чего же ты?
— Лучше б умереть ей, нежели жить-то так — вот что!
— Да что такое, в чем дело-то?
И рассказал мне Никон Федорыч простую и обыкновенную историю, историю, которая все чаще и чаще повторяется на наших глазах, которым не придают почти никакого значения по их обыденности, несмотря даже на то, что их мертвящие последствия как огнем выжигают целые семейства, губят состояния и увеличивают толпу людей, которые какими-то тенями без дела, без цели бродят большую, остальную часть жизни. Дело вышло простое: купчик бесился с жиру — вообразилось ему, что он будто бы полюбил Варю, и той это вообразилось, на самом же деле одному нравилась молоденькая девочка, а Варе нравилось, что она выйдет за богатого… Тут было еще третье заинтересованное лицо — барыня Аполлинария Матвеевна, которой нравилось соединять молодые пары. Матушкин сынок думал, что он непременно женится на Варе; Варя спала и видела, что она непременно выйдет замуж за Лягавина; барыня не сомневалась, что из ее хлопот выйдет свадьба, а вышло совсем иное.
У Степы Лягавина была мамаша — толстая-рас-толстая купчиха; жили Лягавины где-то на краю города, где обыкновенно строятся фабрики; купчиха выезжала только в церковь и живмя жила зимою в своей спальне, где от подушки она переходила к самовару, от самовара к подушке; летом же эта обстановка переносилась в сад, где в беседке шла та же самая история. Прасковья Егоровна жила таким образом в своем особенном миру, мышление ее с давнего времени остановилось на одной известной точке и далее уже и не двигалось; о современных событиях и каких-либо переворотах она ничего не знала, разве что расскажет Степа или погуторит ее наперсница — горничная Авдотья. Как уж шла их отделывочная фабрика — одному Богу было известно; виноват, впрочем, это было также известно еще приказчику и управителю фабрики Семену Лукичу… Мамаша, которой по духовному завещанию было предоставлено все движимое и недвижимое, души не чаяла в Степаньке и хотя видала его не более часа или двух в день, но ни в чем ему не отказывала и когда даже узнала чрез свою наперсницу о том, что у него завелись шашни с какой-то овощницей, с лавочницей, как объяснила Авдотьюшка, то- и тогда большого внимания на это не обратила: «Э, мол, друг Авдотьюшка! Человек молодой, пускай тешится, пускай, пока молод, погуляет». Но, однако, весть, что Сте-панька хочет жениться на этой лавочнице, вызвала ее из апатии: при этом заговорило в ней и уцелевшее ее самолюбие, и купеческое материнское сердце, склонное всегда женить любимого сына на богатой, да на красивой, да на здоровой, и мать всеми своими живыми еще силами восстала против этого желания своего баловня-сына. Вследствие этого между ними произошла сцена, сцена возмутительная даже в этом обществе: Прасковья Егоровна, услыхав о намерении женитьбы Степаньки и объясняя все прогулы сына, прогулы по дням и ночам, влиянием этой «мерзавки-лавочницы», решалась в эту же ночь дожидаться сына хотя до свету и наказала Авдотье, если, Боже чего сохрани, она вздремнет, разбудить ее. Господь Бог, однако, не сохранил ее, и она, вероятно, от «волнения чувств», уснула. Авдотья же, эта ехидная Авдотья, страстно любившая все, что нарушало обычный ход жизни и бывшая но вражде со Степанькой, глаз не смыкала всю ночь и, услыхав под утро, как он приехал, кошкой вползла в спальню мирно покоившейся купчихи, подняла ее на ссору с сыном и поругание от него. Степан был сильно хмелен, он едва добрался до дивана и, вероятно, уснул бы, если бы не вздумалось ему освежиться лимонною водою… В ту минуту, когда он, покачиваясь, раздевался, к нему вошла мать в сопровождении Авдотьи, оставшейся, впрочем, у дверей.
— Я, Степа, говорить с тобой пришла, — начала Прасковья Егоровна спросонья.
— Чего вам?
— Ты, Степа, кутишь не в свою голову…
— Что такое?
— Да то и есть, что кути, да не закучивайся — вот что! С чего это ты жениться-то вздумал без родительского благословения?.. Я и так уж, кажется, на все твои проказы сквозь пальцы смотрю, ну, а это уж не проказы и смотреть на них сквозь пальцы мне не приходится…
— Тебе что? — отвечал, едва ворочая языком, сын.
— Вот те и тебе чего! Не позволю, не бывать этому…
— Ой ли?
— Да вот те и ой ли! Я тебе мать и всю шкуру с тебя спорю.
— Ой-й л-ли?
И он, покачнувшись, приблизился к матери.
— Да что вы, сударыня, на него смотрите-то, прикажите-ка повалить да рубашку задрать! — вмешалась скороговоркою Авдотья… Но едва лишь проговорила она, как полновесная оплеуха раздалась по комнате, и этой оплеухой, вероятно думая отомстить Авдотье, преступный сын попал по щеке матери…