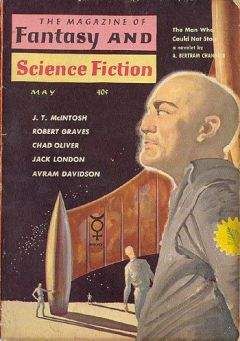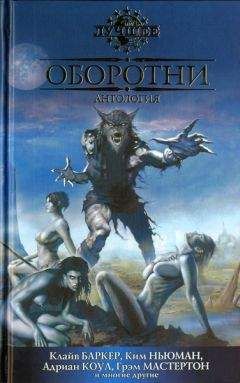Александр Воронский - За живой и мёртвой водой
— Брось ты, ей-богу, языком трепать: тут о деле хотят поразмыслить, а ты пустое мелешь…
Кучуков вежливо заметил:
— В самом деле, товарищ Селезнёв, воздержитесь от ваших замечаний и просите предварительно у меня слово.
— По мне, как хотите, — обиженно, но вяло сказал Селезнёв. — Я об чём, я о политиканах интересуюсь, чтоб вы довольны были, и о порядке заботу имею…
— Надо вносить конкретные предложения, — заявил Климович, будто не замечая Селезнёва. — Со своей стороны предлагаю составить трудовую артель. Попытаемся сообща зарабатывать что-нибудь.
— Ничего не выйдет, — угрюмо заявили конвойные. — Какая тут работа зимой? Никто нас не возьмёт. Мы эти места знаем.
— Тогда, может быть, придётся продать кое-какие вещи? — спросил я собрание.
Ответил Китаев:
— Своего у нас нет, а за казённое под суд попадёшь… Вот рази, — он озорно подмигнул, показывая на Селезнёва, — очки дареные можно спустить по сходной цене.
— Во, во, — со смехом поддержали его конвойные.
Селезнёв заерзал на лавке.
— От сумы да от тюрьмы не отказывайся, — промолвил Панкратов. — Побираться будем.
Ответил жёстко Ногтев:
— Нет, побираться я не стану. Я лучше амбары, да клети, да прилавки, да дворы пойду чистить. Не буду я всякому скоту в ноги кланяться: если на то дело идёт, я шкворнем его угощу.
— Шкворнем, — отозвался Китаев, — тебя, брат, поморы скорее угостят, чем ты их.
С нар поднялся Нефёдов, усмехнулся, неторопливо надел шинель, подпоясался, добродушно сказал:
— Пустое всё говорите. О деле надо думать. Есть у меня тут знакомые, пойду к ним, глядишь — и принесу чего-нибудь.
— Объявляю заседание закрытым, — громогласно заявил Кучуков, очевидно, воображая, будто он на собрании в две-три тысячи человек.
Мы лениво разбрелись по местам. Спустя час или два возвратился Нефёдов, медленно развязал башлык, потёр щёки, подошёл к столу, вынул из кармана шинели бутылку водки, несколько шанег, серебряный рубль.
— Свет не без добрых людей. Китаев, сбегай в лавку, купи пшена и трески. Всем хватит и на завтра останется.
Его простое, гладкое лицо с белёсыми бровями и ресницами улыбалось довольной, широкой улыбкой.
Я спросил Нефёдова:
— Где всё это посчастливилось вам достать?
Нефёдов загадочно ответил:
— Сорока на хвосте принесла. Да вы не сомневайтесь, дело чистое, ей-ей.
Мы ели душистый кулеш и ещё более душистую треску.
Бутылка водки была роспита вдохновенно. Нефёдов держался хлебосольным хозяином. Ночью конвойные долго шептались у себя по углам. Когда на следующий день мы расположились снова отдыхать, Нефёдов обратился к конвойным:
— У кого, други, на селе есть знакомые или какие-никакие?..
Солдаты странно переглянулись, кое-кто двусмысленно ухмыльнулся.
Селезнёв поучительно ответил:
— Умей воровать, умей и ответ держать, сем-ка, я схожу. Я — удачливый. Есть у меня тут приятели.
К обеду он принёс шанег и свежих сельдей. Вид у него был торжественный и самоотверженный. Конвойные подшучивали над Селезнёвым, чего-то недоговаривая.
— Клюнуло?..
— Ты, Селезнёв, старайся, пример показывай, ты — старшой…
— Главное, очки надевай, очки тут первое дело…
Селезнёв самодовольно и молодцевато крутил усы.
В новом посаде знакомые нашлись опять у Нефёдова. Мне показалось странным и подозрительным такое обилие приятелей, земляков и знакомых у конвойных. Ещё более непонятны были шутки, намёки и разговоры, которыми они обменивались. Встретившись во время прогулки с Нефёдовым, я откровенно высказал ему эти свои сомнения, спросил, каким путём солдаты достают деньги, водку, хлеб. Нефёдов сначала замялся, потом неопределённо усмехнулся, потёр нос, поправил привычным движением пояс.
— Ай не догадались, а дело-то совсем простецкое. Вы только своим товарищам не сказывайте, особливо этому косоплечему, который всё в книгу читает. Мы промежду себя сговорились никакого вида вам не показывать: неловко нам перед вами… Ну, одним словом, жёнки посадские нас выручают. Ребята мы здоровые, до бабьей ласки охочие, а тутошним жёнкам это самое только и подавай. Вдов тут много, солдаток. У которых — мужья в отлучке. Теперь поморы на промыслы уехали. А живут, сами видите, в довольстве, в безбедности. Ты придёшь к ней, к жёнке-то, ну… то да сё — она тебя накормит и в дорогу что-нибудь сунет. Народ в этих краях не жадный, сожалетельный… Вот всё и дело… Мы же понимаем — раз прогуляли ваши гроши, должны сами об вас заботиться. У нас тоже своё правильное понятие имеется, мы не нехристи какие али-бо душегубы. Вы только живите без сомнения, до вас всё это не касается.
Нефёдов смущённо заглядывал мне в глаза, точно искал поддержки и оправдания.
— Так не годится, — пробормотал я растерянно, — надо найти какой-нибудь другой выход.
— Чего ж тут хорошего, — согласился с готовностью Нефёдов, — а только ничего другого не надумаешь.
О разговоре с Нефёдовым я рассказал Кучукову и Климовичу. Кучуков морщился, качал головой, прищёлкивал языком, капля на кончике носа у него увеличилась.
— Очень, очень, знаете ли, неудобно, — говорил он.
Климович молча пожимал плечами, но по тому, как нервно сбрасывал он и надевал пенсне, ходил из угла в угол, как невпопад отвечал на вопросы, нетрудно было заметить, что он тоже взволнован. Солдаты торговали собой и кормили нас. Это не соответствовало ни нашим чувствам, ни нашим убеждениям.
Мы со всех сторон обсуждали «положение», искали «выход из тупика», предавались самобичеванию и рассуждениям. Но пока мы всё это делали, конвойные продолжали ходить «по землякам и знакомым». Селезнёв пробовал уже снова начальственно распоряжаться.
— Кому ноне в наряд итить? — спрашивал он, строго посматривая на солдат.
— Итить, кажись, Китаеву, — отвечали конвойные и начинали шутить над ним.
— Ростом будто не вышел.
— Ростом — это ничего: губа подгуляла. У тебя, Китаев, не две губы, а, почитай, три выходит.
Иногда Селезнёв говорил:
— Кому ноне в наряд? Мне ноне в наряд… Эх, служба, служба!
Свои новые обязанности и Селезнёв, и другие конвойные исполняли истово и деловито. Наиболее деловым оказался Нефёдов. Он уже третий год сопровождал арестантов, знал посады и сёла и действительно имел в них много знакомых «женок». Его называли разводящим. Он был здоров, крепок и статен. Торгуя собой, солдаты считали, что они, растратив наши деньги, проштрафились, обязаны поэтому доставить нам хлеб, треску, чай, сахар. Мы не слыхали от них ни одного упрёка, не заметили ни одного косого взгляда, никто из них даже в шутку не предложил нам сходить к «землякам». Кажется, они смотрели на нас, на политических, как на людей иной, отличной от них породы: мы «благородные», «вполне интеллигентные», — ещё у них было «к политике» безотчётное, бессознательное, хотя и очень неопределённое уважение.