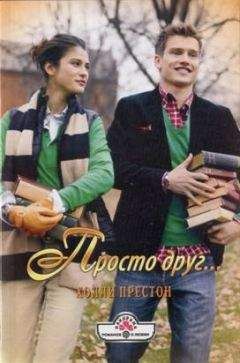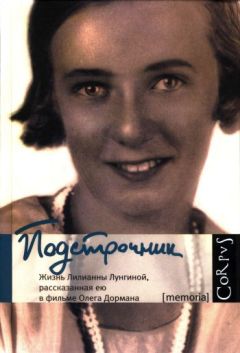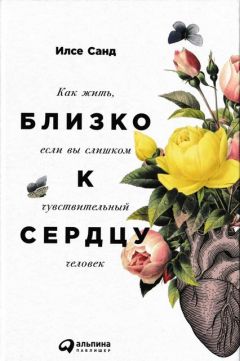Олег Дорман - Нота. Жизнь Рудольфа Баршая, рассказанная им в фильме Олега Дормана
Мы много раз играли «Искусство фуги», и другие исполнители играли, и на диски записывали. Но правда заключалась в том, что меня не все устраивало в этой редакции. Не все получилось таким, как я слышал в голове, когда сочинял. И я решил, что должен работать дальше.
Вот, например, такое место. По течению голосов кажется, что должны играть вторые скрипки. Но в какой-то момент тема спускается до ноты «фа». Такое низкое «фа» скрипка сыграть не может, это ниже ее голоса на целый тон. Поэтому я ловчил, чуть раньше подключал альты, и «фа» играли они. Но это полумера. Это нехорошо. Так оставлять мне не хочется. И я решил, что вместо вторых скрипок должен играть старинный инструмент виола д’амур. У нее есть не только «фа», а даже еще более низкое «ре». Но. У виолы д’амур звук божественной красоты — только очень тихий. И когда в свою очередь вступят другие инструменты, ее голоса не будет слышно. Что же делать? Я придумал, что вступать будут первые скрипки под сурдинами. С этим звучанием скрипок, тоже очень нежным и тихим, виола д’амур прекрасно справляется. Но тут возникла следующая проблема. Как гласит мудрая индийская пословица, прежде чем войти, подумай, как ты выйдешь. Я не подумал. И дошел до места, когда скрипки уже не могут играть под сурдинку. Надо дать музыкантам возможность сурдины снять. Для этого нужен такт паузы, чтобы освободить руки. Но где его взять? Довольно долго я не мог выбраться из тупика. Потом придумал. Незадолго до этого места первая скрипка умолкает, и в течение такта с четвертью концертмейстер имеет время снять сурдину, пока остальные скрипки продолжают. Потом вступает первая скрипка соло, и тогда остальные могут тоже освободиться от сурдин.
Так что работа над «Искусством фуги» растянулась на сорок с лишним лет.
45
Телефона у нас дома не было. Я через филармонию обращался с просьбой в райсовет, в исполком, но пришел ответ: считаем установку телефона у гражданина Баршая нецелесообразной. Поэтому если Шостакович хотел со мной поговорить, он присылал телеграмму. Иногда они приходили по несколько раз в день. «Дорогой Рудольф Борисович зпт позвоните зпт если можете». Или: «Позвоните срочно тчк Шостакович». «Забыл сказать одну вещь зпт простите зпт перезвоните тчк Шостакович». Теперь эти телеграммы я храню в ячейке швейцарского банка.
В прихожей всегда стояло блюдце с монетками, я хватал монетку и шел на улицу в телефон-автомат звонить Дмитрию Дмитриевичу. Д-8-66-40.
Когда он однажды, как бы между делом, попросил меня продиктовать точный состав нашего оркестра, я понял: что-то готовится. А когда спросил: «Можно ли, чтобы два контрабаса в вашем оркестре имели пятую струну?» — я почувствовал, что сбудется моя мечта. Я ведь ему как-то раз сказал прямо: «Жить с вами в одно время и не играть вашей музыки — обидно». Наконец он прислал телеграмму с просьбой перезвонить и говорит: «Может, вы приедете, я хочу вам сыграть кое-что. Сочинил в больнице. Если понравится, был бы рад поручить вам первое исполнение». Я помчался к нему.
Это была Четырнадцатая симфония. Великая симфония о смерти на стихи Аполлинера, Лорки, Кюхельбекера и Рильке.
Всевластна смерть.
Она на страже
и в счастья час.
В миг высшей жизни
она в нас страждет,
живет и жаждет —
и плачет в нас.[8]
Шостакович рассказал мне, что перед тем, как лечь в больницу, слушал «Песни и пляски смерти» Мусоргского (он их сам за несколько лет до этого оркестровал) и подумал: пора бы и мне заняться смертью.
Надо сказать, мучительная болезнь уже начала отнимать у него физические силы, у него немели ноги и правая рука. Врачи не понимали, что это, кто говорил, полиомиелит, кто считал — последствие нервных потрясений. Д. Д. месяцами лежал в больницах, ездил в Курган к знаменитому доктору Илизарову — ничего не помогало. С каким же великим достоинством и мужеством Шостакович проходил через эти страдания. Ни одной жалобы, никогда. Ну, может, иногда, с юмором. Он мне сказал: «Я предупредил Вайнберга, что если по каким-либо причинам не сумею закончить симфонию сам, чтобы он связался с вами и вы бы вдвоем закончили — у вас, в этом смысле, хороший опыт».
Он приходил на все репетиции Четырнадцатой. Даже самые первые, когда певцы учили партии с концертмейстером. А когда пошла работа с оркестром… Ребята всегда играли превосходно, но тут они превзошли самих себя. Д. Д. никогда не вмешивался — само его присутствие влияло. Он реагировал, как ребенок. Есть там вторая часть на стихи Лорки, «Малагенья». Быстрая, с сумасшедшинкой, и Шостакович придумал потрясающее звучание. Скрипки играют очень высоко, а басы — контрабас с виолончелью — очень низко. И это расстояние дает фантастически красивый эффект. Репетируем, добиваемся правильного баланса. Вдруг чувствую — кто-то сильно ударяет меня ладонью по спине, чуть пониже плеча. Шостакович сидел позади, но тут я увлекся, на мгновенье забыл, что он там. Оборачиваюсь от неожиданности, а он наклоняется к моему уху и говорит: «Черт побери, я не знал, что это будет так потрясающе звучать! Продолжайте! Продолжайте!» Потер руки от радости. Как Пушкин, когда перечел «Бориса Годунова» — «Ай да Пушкин, ай да сукин сын».
Почти всегда мы совпадали. Очень редко он просил что-нибудь играть побыстрее или помедленнее, но в репетиции не вмешивался, только в антракте, с глазу на глаз. А чаще было — я спускаюсь к нему со сцены в зал, а он говорит: «Слушайте, удивительное явление. Только я подумаю „вот тут бы остановиться, исправить“ — как вы останавливаете оркестр и это же самое говорите». Столько в нем было доброты, доброжелательности. Вообще ведь от исполнителей он много страдал, не раз мне рассказывал о невежестве лабухов, с которыми сталкивался. Ненавидел лабухов, именно так их называл. Однажды играли его квинтет, и он сам выступал как пианист с квартетом. Возвращаются в поезде, выпивают, и Шостакович слушает их разговор. «А помните, как я не вступил в начале?» — второй скрипач говорит. Все: «Помним, еще бы». Хохочут. «Выпьем!» Выпивают. Одна рюмка, другая. Виолончелист говорит: «А помните, как я не вступил в середине?» — «Конечно помним. Там такое важное соло виолончели, а ты не вступил». Хохочут, заливаются.
«Выпьем». Выпили. Альтист говорит: «А помните, как я в последней части вообще как не вступил, так до конца и не играл?» Смеются. «Наливай». Шостакович мне говорит: «Смеются они, понимаете? Смеются. А ведь плакать надо».
Бывали случаи, оркестранты отказывались играть написанное Шостаковичем — говорили, слишком трудно.
«Трудно? — он отвечал. — Пусть постараются». И действительно, всегда эти трудные для исполнения места имели важное значение для характера музыки. «Они меня уверяют, что в таком быстром темпе играть pizzicato невозможно…» Помолчал-помолчал, потом в пол: «А по-моему, возможно». И возможно, и необходимо. Сократа спросили — что самое большое зло на свете? Он ответил: невежество…