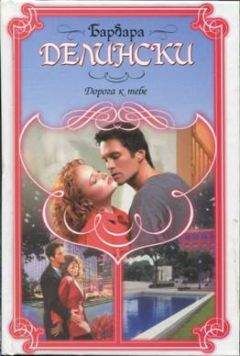Жан Маре - Жизнь актера
Париж тоже не был легкомыслен. Он был беспечен, но в хорошем смысле слова. Его лицо оставалось приветливым, несмотря на угрозу. На концертах, в кинотеатрах, в театрах не хватало мест для всех желающих. Париж храбрился и не хотел показать оккупантам ни свое беспокойство, ни свое страдание.
Жан писал «Красавицу и чудовище». А я договорился с театром «Эдуарда VII» о постановке «Андромахи». В своей комнате в Пале-Рояль я репетировал роль Ореста, используя палку от метлы вместо посоха вестника: указывал ею на людей и предметы, потом снова клал на плечо, переносил вправо, влево, за спину. Вскоре мне показалось, что я использую ее слишком много. Я спросил совета у Жана, продемонстрировав ему, как это будет выглядеть. Он меня успокоил:
— Это замечательно, ни одному актеру не приходило в голову использовать это. В твоих руках эта палка становится королевским жезлом.
Я привык к весу и размерам моей метлы. Другая трость, без сомнения, нарушила бы отработанные жесты. Мы пошли к Пикассо на улицу Великих Августинцев. До встречи с Кокто я не видел ни одной картины Пикассо, разве что на репродукциях, и никогда не встречался с ним самим. Жан часто рассказывал мне о нем. Мне трудно сказать, видел ли я своими глазами или глазами Жана Кокто, чувствовал своим сердцем или его. Но помню, что это было как удар кулаком в грудь. Мной овладели необыкновенный восторг и в то же время великое отчаяние. Пикассо был для меня вне всякой критики, один в созданном им мире. Я перенесся на какую-то странную планету.
Потом я часто встречался с Пикассо, всякий раз робея, стесняясь, но всегда с огромным почтением. В его доме у меня было такое чувство, что я нахожусь в запретном месте, которому мое присутствие мешает, что вижу то, чего не имею права видеть, что рискую быть обращенным в соляной столб. Никаких украшений. Чердаки, громоздящиеся один на другом, пустые комнаты — роскошная бедность. Он принимает нас. Это король в одежде нищего. В его лукавых, блестящих, умных глазах я читаю снисхождение и симпатию.
Я умираю от желания извиниться за то, что я лишь тот, кто есть. Во всяком случае, я не раскрываю рта. Это Жан просит его сделать из моей палки от метлы посох вестника. Пикассо тут же с удовольствием берется за дело; он наносит на палку рисунки каленым железом, превратив ее в чудесное произведение искусства.
На репетициях возникают трудности. При каждом указании, которое я даю Кюни, он смотрит на меня с недоверием. Может быть, он думает, что я хочу, чтобы он плохо сыграл? Он превосходен. А я страдаю из-за его подозрительности.
Мишель Альфа, которую я предполагал пригласить на роль Гермионы, потому что знал, что она давно о ней мечтает, говорит, что она неспособна произнести монолог. У меня опускаются руки. Тогда мне пришло в голову заставить ее обращаться к пустому трону Пирра. И — получилось: она говорит с троном, даже прикасается к нему, ласкает его...
Теперь я уже достаточно уверен в себе, чтобы разрешить Жану присутствовать на одной из репетиций. Он признался мне:
— Я поражен твоим авторитетом, твоими находками. Как только ты начинаешь говорить, текст становится волнующим, такое впечатление, что он целиком придуман тобой.
Получив одобрение Жана, я уже никого не боюсь. Моя единственная цель — чтобы ему нравилось то, что я делаю. Жан писал в своем дневнике:
«Отказ от декламации и обнаружение в тексте очень простого величия превращают этот спектакль в нечто новое в постановках трагедий 1944 года.
Этим новым мы целиком обязаны Жану Маре, который использует его и учит этому своих товарищей. Он играет Ореста, и, по моему мнению, делает это даже лучше Муне и Де Макса. Его красоту, благородство, пыл, человечность трудно превзойти. Декорация: выстроенная перспектива ночной улицы, тронутая кое-где светлыми бликами, выходит на высокую аркаду, выделяющуюся на фоне неба с рваными облаками; это что-то вроде музея Гревена[26], детали которого и ложные перспективы придают персонажам неожиданную силу. Выход Андромахи с прической в виде хвоста Троянского коня, задрапированной в белое, с руками, обвитыми косами из ткани, — просто чудо.
Постановка этого спектакля выходит далеко за рамки простого интереса, вызываемого театром. Не желая того и не выступая против чего-либо, Маре попал в точку, и это вызывает злобу и восторг.
Дух обновления впервые противостоит духу «Картеля»[27], «Комеди Франсез» и общепринятым традициям.
По-видимому, красота вызывает зависть, не поддающуюся анализу и выражающуюся в ярости.
Мари Белл, которую я посетил в ее гримерной в пятницу перед «Ринальдо и Армидой», сказала: «С твоей стороны непростительно было позволить Жанно сделать такое, это стыд». Она ушла со спектакля, уводя за собой Ремю, со словами: «Его следовало бы расстрелять». Вчера вечером во время представления зрители слушали, как на церковной службе, по окончании спектакля без конца вызывали артистов, и все опоздали на последний поезд метро.
Стало известно, что г-н Лобро и его головорезы собираются организовать скандалы, которые привели бы к прекращению спектаклей.
Эта «Андромаха» — как радостный взрыв, и его алое пламя сделает другие спектакли невозможными, устаревшими в полном смысле этого слова.
Маре может гордиться тем, что вызвал пьесой Расина такой же скандал, как «Парад», «Свадьба» или «Весна священная».[28] Он заставляет внезапно пробудиться людей, которые дремлют и любят дремать.
Это ключевой спектакль, событие, воплощение разума и любви».
Кокто предсказал правильно: разразился новый скандал. В день генеральной репетиции и в другие дни тридцать мест было занято членами ФНП[29] — стоял свист, рев, на сцену летели зловонные пакеты, взрывались бомбы со слезоточивым газом. К счастью, раздавались и крики «браво» мужественных зрителей, которые смотрели и слушали пьесу, зажав платками носы.
Во время сцены Гермионы, предшествующей так называемой сцене ярости Ореста, которую я решил играть без крика, в зале стоял такой шум, что я растерялся, не зная, как же быть. Я вышел на сцену и стал говорить тише, чем собирался. Шум постепенно стих, а в конце спектакля был настоящий триумф. Девушки вытирали мне слезы своими носовыми платками, сопровождая меня при выходе. Анни Дюко была великолепна, как и Ален Кюни. Мишель Альфа — менее потрясающа, чем я ожидал. Несомненно, шум в зале выбил ее из колеи.
На следующий день критики облили нас грязью. «Это спектакль педерастов, доказательство — женщины закрыты до шеи, а мужчины почти голые».