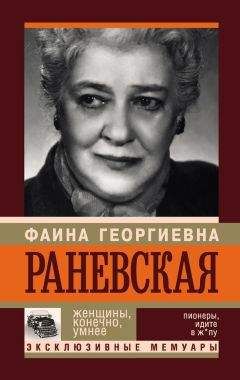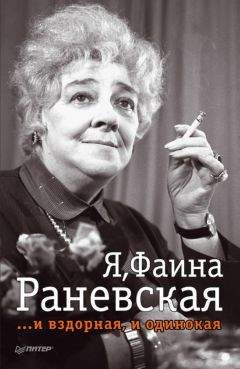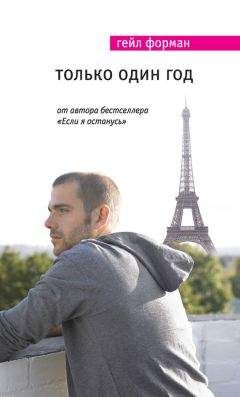Глеб Скороходов - Фаина Раневская. Фуфа Великолепная, или с юмором по жизни
Надеюсь, я не очень сложно выражаюсь? Аудитории понятно? — закончила Ф. Г. тоном профессора.
— Ильинский, — продолжала она, закурив, — еще одно доказательство, что я правильно не пишу о себе книгу. Что, идти, как он, от роли к роли, восхищаться пьесами, драматургами, режиссерами, театрами, наконец? Кому это нужно?! Я напишу: «Блистательный артист Певцов», а кто его видел, кто помнит, почему люди должны верить мне? Или я сделаю все наоборот — начну рассказывать о том, о чем в мемуарах говорить не принято.
Вспомню, например, как в тринадцатом годе у меня был любовник гусар-кавалерист. Когда мы остались вдвоем, я уже лежу, он разделся, подошел ко мне, и я вскрикнула:
— Ой, какой огромный!
А он довольно улыбнулся и, покачав в воздухе своим достоинством, гордо сказал:
— Овсом кормлю!
Я стал смеяться, и Ф. Г. вслед за мной. Сквозь смех она спросила:
— Ну что, такое можно? Кто это напечатает? Да я сама сгорела бы со стыда, увидев такое в книге!.. — И после паузы добавила: — Ив очередной раз проявила бы лицемерие!.. Почему у нас не пишут о том, о чем говорить не принято? Ну, напиши я, как во время войны, еще той, Первой, оказалась в Большом театре рядом с Верой Холодной, такой красавицей — глаз не оторвать. Ну, если на экране она хороша, то в жизни была вдвое, в десять раз прекраснее. Не помню, как я нашла в себе силы тут же не броситься целовать ее! Понимаю, кто-то найдет это забавным, кто-то решит, что мемуаристка сошла с ума, но писать об этом, наверное, просто не надо.
В роли Мурашкиной в коротрометражке «Драма». 1960 г.
Вот и ваш Ильинский делал свою книгу с постоянной оглядкой. Ну почему он ничего не написал про свою первую жену — я знала ее. Да ее знала вся Москва, наверное. Считали ее тенью Ильинского, кто-то думал, что она немного того, — Ф. Г. повертела пальцем у виска. — А она была превосходной, очень умной и высокообразованной женщиной. Весь классический репертуар, что читал Игорь Владимирович с эстрады, — от нее.
Он встретил ее еще мальчишкой — ну, двадцати лет ему не было. Таня Бирюкова работала у того же Мейерхольда, куда пришел он. Любовь, они расписались — тогда это можно было сделать через пять минут после первой встречи — и, кажется, были счастливы. Но Татьяна повторила ошибку, что делают многие: относилась к мужу как к своей собственности. Считала, что этой собственностью она вправе распоряжаться, контролировать каждый его шаг. В общем, это не тот случай, когда любящий готов целиком отдать себя любимому, ничего не требуя взамен. Таня бросила театр, чтобы Игорь был постоянно рядом, — ездила с ним на все съемки, на гастроли мейерхольдовской труппы и в поездки по городам, когда Ильинский начал читать в концертах прозу.
А вы знаете, что до революции эстрада не знала этого? Выступали чтецы-декламаторы со стихами Апухтина, рассказчики с анекдотами или юморесками Горбунова и Аверченко, но с «Крейцеровой сонатой» Толстого — никто и никогда. Актеры с издевкой называли мастеров художественного чтения «умельцами читать книги вслух».
Так вот Танюша на каждом концерте садилась в первый ряд или в кулису, поближе к Игорю, и — очень трогательно — следила, а вдруг он запнется или забудет рассказ. Весь его репертуар она знала наизусть.
Конечно, ему было нелегко: от такой ежеминутной опеки с ума сойти можно. И он часто раздражался, находил способы улизнуть от нее, на несколько дней пропадал с другой женщиной. И не раз. А она ходила по городу с огромными глазами, высматривая его.
Они прожили вместе лет тридцать. Детей не было — она сказала: «Кроме тебя, мне никто не нужен!». А он не мог смириться с ее контролем. И вот вам парадокс: ему стукнуло, кажется, пятьдесят, когда она умерла, и он вдруг понял, что и его жизнь кончилась.
Мне рассказали: он ушел из театра и решил покончить с собой. Стал спокойно, абсолютно спокойно готовиться к этому. Купил снотворные таблетки, не одну пачку, баллон с усыпляющим газом. Спасла его только другая женщина.
Я понимаю, ничего нового в этой истории нет и число подобных — легион. Но если такое случилось с тобой, а ты — артист, и душа человека — предмет твоей работы, так расскажи об этом, попытайся разобраться в нем. Вот тут как раз и было бы — «сам о себе».
ТОСТ АЛЕКСЕЯ ТОЛСТОГО
— Я была в гостях у Толстого, на его даче, — вспомнила Ф. Г. — Не так давно. Еще шла война, мы только вернулись из эвакуации, в Москве голодно, по карточкам хлеб, мясо, крупа и спички, а тут такой стол, будто за окном мир и изобилие. После обильных закусок — чанахи из баранины, котлеты де-воляй, телячьи почки каждому на маленькой сковородочке — пальчики оближешь.
Алексей Николаевич поднял бокал: — Хочу выпить за терпкий талант Раневской!
Потом, когда уже встали из-за стола и он закурил трубку, я подошла к нему:
— Алексей Николаевич, меня тронули ваше внимание и ваша оценка. Я только не поняла, почему «терпкий»?
— Есть такой обладатель терпкого запаха скипидара — терпентин, — объяснил он. — От него долго нельзя избавиться. После «Мечты» ваша старуха ходила за мной по пятам. Выйду в сад к цветам — она передо мной. Сяду за стол, чтобы писать, не могу — она, проклятая, рядом, наблюдает за каждым моим движением. Две недели меня преследовала, еле избавился. Вот сейчас вспомнил — и она снова, как живая. Вы не актриса, вы актрисище.
— Вы, конечно, захотите вставить этот эпизод в книгу? — спросила Ф. Г. меня.
— Да, обязательно. Не каждому довелось встречаться с Толстым, да еще услыхать такие слова!
— Ну, и выставите меня хвастуньей, притом самовлюбленной. А я об этом, клянусь, никому никогда не рассказывала. Такая я, блядь, стеснительная. Поэтому лучше напишите, что слышали слова Толстого не от меня, а нашли их случайно в старой записной книжке Раневской. Она, мол, об этой книжке и думать забыла.
Алексея Николаевича Толстого восхищала игра Раневской в фильме «Мечта»
— Маскировка номер два! — засмеялся я.
— О чем вы?
— В детстве я смотрел фильм «Подводная лодка Т-9». Она охотилась за вражеским кораблем и не могла поймать его — он ловко менял свой облик. «Маскировка номер два!» — командовал капитан, и рыбацкое судно превращалось в комфортный пассажирский лайнер!
— Можете еще добавить, — Ф. Г. оставила мое воспоминание в стороне, — в той же записной книжке Раневская написала: «После спектакля «Игрок» ко мне в уборную постучала Марецкая.
— Вера, ну как? — кинулась я к ней.
— Глыба вы, глыба! — сказала она».
С записной книжкой, по-моему, будет приличнее. Но чтобы вы в глазах читателей не выглядели гангстером, что шарит по моим шкафам и столам, лучше напишите так: вы случайно наткнулись на эти записи в моей гримуборной и спросили, почему они лежат здесь, а я ответила: