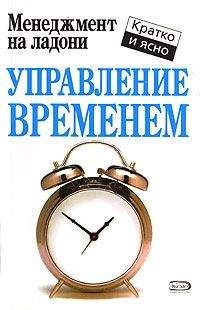Наталья Решетовская - В споре со временем
— Хотя бы тебя, — ответил Николай, не задумываясь.
На следующий же день Александр съездил к Виткевичам и под каким-то предлогом забрал у них своё любимое детище, которое те не оценили… (А не лучше ли было бы выслушать критику?.. Разве писателю полезны только похвалы?..)
В том же году у Виткевичей родился сын. Я предложила мужу подняться выше нашей ссоры и поздравить их.
— Не знаю, чем рождение ребёнка большее событие, чем рождение романа… Ведь они не признали моей «Шарашки»…
Много лет спустя Александр Исаевич поймет, что значит рождение ребёнка. И дело вовсе не в том, что Александр был в 65-м году менее чуток. Скорее наоборот.
Просто «детский вопрос» лежал в ту пору вне сферы его интересов. А всё, что не имело непосредственного касательства к этим его интересам, для Солженицына, с самых ранних лет, будто бы и не существовало.
Так и складывалось до известной степени одностороннее восприятие жизни. Луч выхватывает из полумрака узкий сектор. Всё в этом секторе выпукло, красочно. А за его границами едва различимо.
Отсюда и наивные, а то и просто фантастические представления о самых простых житейских вещах. И сочинение «планов» — вроде тех, что были связаны с кризисами в нашей с ним жизни, просто потрясавших людей своей отчуждённостью от реального.
Отсюда и промахи творческого характера, не раз подстерегавшие Солженицына, когда он начинал писать о том, чего не видел сам, а лишь пытался представить. А если учесть, что круг собеседников, знакомых, через которых можно воспринимать окружающий мир, у нашего добровольного «затворника» всегда был узок и не отличался большим разнообразием, удивительно ли, что им делались попытки навязать жизни выводы, сконструированные в собственном мозгу?
Шло это от отсутствия достаточного интереса к шумящей вокруг него жизни, от недостатка опыта, глубокого знания жизни и людей. Не хватало обилия наблюдений, которое единственно даёт писателю возможность щедро и вольно пользоваться ими. А если и было — то лишь из одной, узкой сферы жизни — лагерной.
Время старых друзей уходило безвозвратно.
Появились новые, из числа почитателей Солженицына.
Но теперь уже не было ни одной дружбы равного с равным. Если эти люди нового его окружения и черпали для себя что-то от общения со своим кумиром, то для него самого они были лишь более или менее «нужные люди».
Если в былые времена Александра тянуло к людям, повидавшим жизнь, любившим и умевшим поразмышлять над ней, к таким, у которых можно много почерпнуть, то теперь его стали интересовать те, кто помогал ему в работе, в самом узком смысле слова. Подобрать материал, раздобыть необходимую книгу или статью, что-то перепечатать, встретиться с человеком, который может сообщить интересные факты и записать разговор. Словом, это были люди, облегчавшие литературный труд Солженицына, помогающие ему сберечь время.
Время-то они, может быть, и помогли сэкономить. Но… какой ценой?
Если со старыми друзьями были серьёзные разговоры и даже дискуссии о творчестве, литературе, о произведениях самого Солженицына, то здесь всего этого не было. Во всех вопросах Солженицын отныне разбирался настолько лучше кого бы то ни было, что никакой потребности в общении такого рода он уже не ощущал. (Даже мне — химику — он как-то разъяснял только ему ведомую тайну октановых чисел бензина.) Солженицына не волновали проблемы и заботы этих новых «друзей», не интересовал их внутренний мир.
Итак, десятки друзей и ни одного друга.
Некоторые из этих людей бывали даже назойливыми. Так, Жоресу Медведеву настолько импонировала репутация «друга Солженицына», что ради этого он порой прятал в карман чувство собственного достоинства.
Живя в Обнинске, Жорес предпочитал добираться до Москвы не по железной дороге, а на попутных машинах, чтобы ехать мимо нашей дачи с обязательной остановкой у нас. Он не мог не чувствовать, что этому визиту далеко не всегда рады. И всё-таки, хотя однажды его буквально выпроводили со двора, он снова и снова появлялся у нас.
В 1965 году Жорес Медведев развил бешеную деятельность, стараясь устроить меня в научно-исследовательский институт в Обнинске с тем, чтобы мы переехали туда. Когда это сорвалось, он был немало огорчён. Не смог стать благодетелем нашей семьи! Правда, он не оставляет попыток и не упускает случая «защищать» Солженицына и ныне. Так, прослышав о моей книге и не имея о ней никакого представления, он поспешил выступить с заявлением, что я якобы поклялась ему, Жоресу Медведеву, посвятить свою жизнь «мести Солженицыну». Это заявление настолько комично, что на Жореса в данном случае даже нельзя сердиться.
Лидия Корнеевна Чуковская предоставляет Александру Исаевичу комнату в своей московской квартире, её дочь Люша весь свой досуг посвящает печатанью на машинке его страниц. Они, да и многие другие поставили себя так, что Солженицын всё воспринимал как должное, считая, что он чуть ли не облагодетельствовал всех их, милостиво разрешая служить ему. А те, в свою очередь, верили, что Александр Исаевич — гений и что ему всё позволено.
Сто раз была права Надежда Александровна Павлович, когда позднее написала: «Мы виноваты, что развратили Вас… и славой и почти поклонением…»
Я как-то спросила мужа, почему у него такое «дамское» окружение. Ожидала, что он рассердится, будет возражать. Но он ответил даже растерянно:
— Не знаю. Как-то само собой получилось.
Справедливость требует упомянуть о самой, пожалуй, преданной почитательнице Солженицына.
Как-то в Публичной библиотеке Ленинграда немолодая уже женщина 40 минут изучала моего мужа прежде, чем подойти к нему (ей было разрешено прийти в библиотеку познакомиться). Позже она рассказывала мне, что дивилась, с какой ловкостью Александр Исаевич подбрасывает и, не глядя, ловит на лету карандаш, успевший несколько раз перевернуться в воздухе. (Он и в самом деле проделывал это виртуозно.) Она говорила мне, что боялась подойти к Солженицыну: ответит ли он тому образу, который у неё создался, к которому обращала она, в частности, и такие строки: «Нас — тысячи! Вы один. И никто, никто из нас не смеет претендовать на Ваше внимание. Сердиться на того, кому молишься, нельзя. Жду со страстным нетерпением Вашего звонка…»
Этой восторженной почитательницей была Елизавета Денисовна Воронянская. Вскоре после знакомства с нами она выйдет на пенсию. Чтобы быть полезной своему кумиру, изучит машинопись. В любое время муж мог обратиться к ней буквально с любой просьбой, зная, что эта женщина сделает для него всё, что в её силах.
Осенью 73-го года она не захотела простить себе того ущерба, который она, как ей во всяком случае казалось, нанесла «тому, кому молишься», и она повесилась в своей комнате рядом с портретом Солженицына.