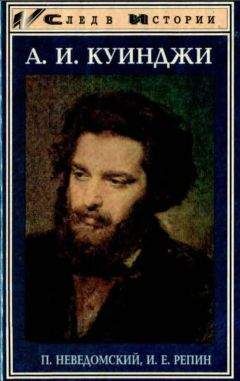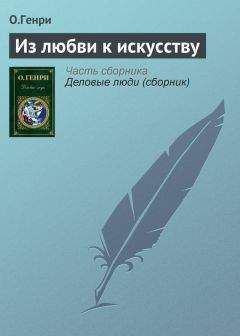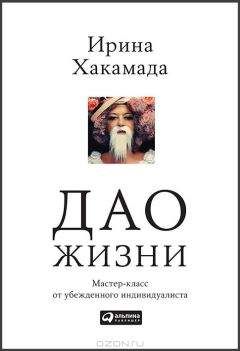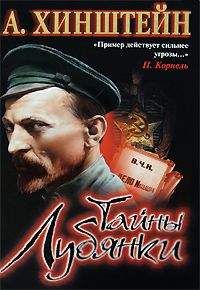М.П. Неведомский - А.И. Куинджи
Однажды Орловский, озабоченный, но торжествующий, веселый, еще издали делал Куинджи знаки и приглашал идти за ним. Куинджи даже раздумье взяло: идти ли? Пожалуй, рехнулся чудак, да еще убить собирается. Но Орловский имел вид такого счастливого таланта от удачи и так любовно глядел на Куинджи, что он последовал за ним в мастерскую (Боголюбовскую), в Академию художеств.
Орловский подвел Куинджи к окну в академический сад, подал ему зеленое стекло.
— Смотрите!! — произнес он таинственным шепотом.
— Это?.. Что такое? — недоумевал Куинджи. — Зеленое стекло?.. Так что же? Где секрет, в чем?
— Не хитрите, — страстно-выразительно кипел Орловский, — вы пишете природу в цветное стекло?!!
— Ха! Ха! Ха, ха, ха! Ха! — отвечал Куинджи. — Ох, не могу… Ха! Ха!
— А это вот: оранжевое, голубое, красное… Да?!… — шептал Орловский. Куинджи в ответ только хохотал.
Естественно, что Куинджи так, от всего сердца, хохотал над откровенностью своего товарища: он так глубоко и серьезно работал, по-рыцарски, и так ревниво не допускал в себе ничего избитого. Ему ли было до фокусов? Глубоко, упорно добивался он совершенства в своей задаче. Здесь он был чувствителен к самым минимальным колебаниям в недойденности и неутомим в своей энергии глубочайших исканий иллюзии, как уже сказано. Иллюзия света была его богом, и не было художника, равного ему в достижении этого чуда живописи. Куинджи — художник света.
Ах, как живо помню я его за этим процессом (когда еще мы не прятали друг от друга своих работ). Коренастая фигура с огромной головой — шевелюрой Авессалома и очаровательными очами быка — он был красив, как Ассур, дух ассирийцев.
Живо представляю: долго стоит он на расстоянии шагов 15-ти перед своею картиной; сильно, не моргнув, смотрят его буркалы в самую суть создаваемой стихии на холсте; кажется, лучи его зрения уже мне, зрителю, видны, — так они сильны и остры; нескоро наконец взгляд его опускается на палитру; долго и медленно смешивает он краску. Можно заскучать, наблюдая, как один почтенный зритель заскучал над удильщиком рыбы…
«Березовая роща». 1881 г. (Собрание Терещенко. Киев)
Наконец-то! он зашагал тяжелыми шагами к картине (так шагают только вагнеровские герои с большими пиками по сцене). Остановился. Долго вглядывается в картину и на краску на конце кисти; потом, прицелившись, вдруг, как охотник, быстро кладет мазок и тогда уже быстрее идет назад, к тому месту, где мешал краску, где твердо стоял на своих толстых подошвах и высоких каблуках обе ими ногами. Опять острейший луч волооких на холст, опять долгое соображение и проверка на расстоянии; опять опущенные глаза на палитру, опять еще дольшее мешание краски и опять тяжелые шаги к своему простенькому мольберту, в своей — совершенно пустой — студии. Он ничего не переносил на стенах; все было сложено аккуратно и все надежно хранилось его женой Верой Леонтьевной, которая в удивительном порядке и идеальной чистоте держала даже все его тюбики красок, перетирая их каждый день — палитру, также и кисти. Он делал вид, что будто тяготится даже этой чистотой.
В большом физическом кабинете на университетском дворе мы, художники-передвижники, собирались в обществе Менделеева и Ф. Ф. Петрушевского для изучения под их руководством свойств разных красок. Есть прибор — измеритель чувствительности глаза к тонким нюансам тонов; Куинджи побивал рекорд в чувствительности до идеальных точностей, а у некоторых товарищей до смеху была груба эта чувствительность.
И пока, вот так упорно и просто, в совершенной тишине и одиночестве, идет глубокий труд изобретателя, на улице Б. Морской — давка, в квартирах — нескончаемые споры людей, совсем выбитых из интереса своих специальностей, обязанностей и здорово-живешь входящих в раж по поводу новых явлений в сфере живописи — пейзажа.
Всем этим людям, довольно хладнокровным к поэзии, вдруг становится так близок интерес специалистов живописи, как будто он, как отечество — в опасности…
Являются с воли озабоченные, присяжные судьи. — Они сами были свидетелями невиданного успеха новых картин — нечто невероятное!
И вот наступает время справедливого приговора этому ошарашившему всех явлению.
— Интересно хорошенько бы рассмотреть в лупу: из каких красок составлен этот свет; кажется, и красок таких нет. Просто дьявольщина какая-то.
— Шарлатанство! — вдруг раздается громко голос вошедшего. — И, знаете ли: это совсем просто. Я читал в одной газете статью про эти картины. Автор пишет: и чего это люди сходят с ума?! Куинджи взял, развел лунную краску и все это совсем просто нарисовал, как и всякий другой рисует… Лунная краска. Да, такая есть. Верно! Я сам читал статью: забыл только, в какой газете.
А публика валит. Восторги зрителей переходят в какую-то молитвенную тишину; слышны только вздохи… И, разумеется, успех Куинджи заключался только в его гениальности; увлекала в его искусстве введенная им поэзия в живописи. Да, взята была часть поэзии, присущая только живописи, и она, без всяких пояснений, так могущественно погружала зрителей в свой мир очарований.
Всю толпу, без разбору: и эстетов, и профанов, и знатоков, и уличных зевак — всех увлекал Куинджи своим гением и над всеми царил невиданно и неслыханно дотоле у нас (со времени К. Брюллова).
Искусство, как таковое — «искусство для искусства» — теперь перешло уже в такое барокко, что нас ничем уже ни привлечь, ни удивить оно не в состоянии. Но в то время, когда на первом плане стояла «идея», на втором — «содержание» картины, странно было видеть и трудно объяснить, как и почему разглаживались глубокие морщины на многодумных лбах изысканных зрителей, повисшие книзу серьезные углы рта тянулись вверх, в невинную улыбку, и они, эти требовательные строгие судьи, забыв все, отдавались наслаждению созерцания — чего же? — как освещена солнцем ветка березы, с какой свежестью окружен воздухом каждый листок и блестят местами капельки росы! — Замирали в умилении и не отходили.
Современники еще помнят, как на Большой Морской непрерывная масса карет запружала всю улицу; длинным хвостом стояла публика и на лестнице, в ожидании впуска, и с улицы, в обе стороны тротуара; терпеливо и долго ждали целые массы, строго наблюдая порядок приближения к заветной двери, куда пускали только сериями, так как зрители могли бы задохнуться и задавиться от тесноты и недостатка воздуха (помещение О-ва П. X. было еще небольшое тогда, вовсе не рассчитанное на такие толпы).