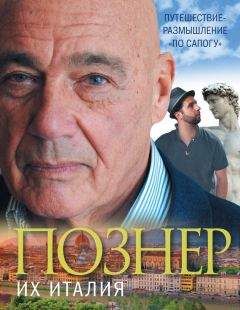Сергей Нечаев - Русская Италия
Трудно сказать, понимал ли тогда Лифарь, чего добивается Дягилев, но, похоже, догадывался. Ведь все в труппе знали о гомосексуальных наклонностях «шефа», да и сам Сергей Павлович всегда жил со своими любовниками открыто, никого не боясь и не стесняясь.
Однажды Лифарь отправился на концерт Игоря Стравинского, где неожиданно встретился с Дягилевым. И совершенно неожиданно Сергей Павлович из раздраженного и недовольного хозяина влруг опять превратился в задушевного старшего друга. Он обрушил на Сержа потоки ласковых слов, и этот странный разговор привел молодого человека в полное смятение. Он вспомнил все, что говорилось в труппе о фаворитах Дягилева. «Неужели и я для Сергея Павловича его будущий фаворит, неужели он и меня готовит для этого? — спрашивал себя Лифарь и твердо решил. — Нет, все, что угодно, только не это — я никогда не стану фаворитом!»
Позже Лифарь вспоминал:
«Дягилев забросал меня целым потоком ласковых слов: тут были и «цветочек», и «ягодка», и «мой милый, хороший мальчик»…
И все это Сергей Павлович говорил так нежно, так хорошо, так мило, просто, что у меня радостно и признательно забилось сердце от первой ласки в моей жизни (кроме ласки матери), и чьей ласки?
Дягилева, великого Дягилева, моего бога, моего божества!..»
И, конечно, Серж Лифарь стал дягилевским фаворитом. Если маэстро кого-то или что-то хотел, он не отступался никогда, мог вцепиться волчьей хваткой.
Жить и работать с Дягилевым было чрезвычайно трудно. Он часто бывал груб и отличался патологической ревностью (Лифарь даже называл его «Отеллушка»), не позволяя своим любимцам общаться ни с женщинами, ни с мужчинами, включая собственных друзей. Он требовал безоговорочного подчинения всегда и во всем, причем это касалось не только творческих проблем. Стоило, например, Лифарю не надеть подаренную ему Дягилевым шляпу, как тот на него публично накричал:
— Что? Она тебе не идет? Ты хочешь сказать, что у меня нет вкуса, что я не знаю своего ремесла? Вон с глаз моих, негодный щенок!
Однако следует отдать ему должное: он давал своим фаворитам (читай — любовникам) роли, за которые в любой балетной труппе идет жесточайшая борьба. Того же Лифаря Дягилев отправил совершенствоваться танцам в Италию, причем не к кому-нибудь, а к лучшему педагогу Энрико Чекетти. Но и на расстоянии он не забывал о юноше, забрасывал его нежными письмами, а потом и сам приехал к нему. В результате в Италии, в Милане, они пережили то, что у молодоженов называется медовым месяцем. В Италии им было так хорошо, так уютно вдвоем, что у Лифаря от счастья замирало сердце.
Владимир Федоровский в своей книге «Сергей Дягилев, или Закулисная история русского балета» пишет:
«Дягилев и его молодой друг в Милане были счастливы. Лифарь был душой и телом предан маэстро, который полностью занимал его мысли, настолько танцовщик был заворожен исключительной личностью наставника».
Потом они провели несколько дней в Венеции.
Об этой поездке Владимир Федоровский пишет:
«Они сошли с поезда в тот волшебный миг, когда свет менялся, превращая явственные цвета дневной живописи в подчеркнуто определенные, чуть ли не резкие очертания, свойственные гравюре.
Дягилев, впервые обратившись к Лифарю на «ты», произнес слова, которые вскоре войдут в анналы великих историй любви XX века: «Хочешь взять фиакр или гондолу?»
Разумеется, молодой человек без колебаний выбрал гондолу. И Дягилев, мастер любовных недомолвок, рассмеялся… Высоко в небе кружила пара молодых орлов. Обе хищные птицы какое-то время летели рядом, согласно взмахивая крыльями, затем вместе развернулись и опустились на верхушку дерева.
Любуясь этим двойным символом мощи, свободы и зоркости, Сергей Лифарь спрашивал себя, должен ли он видеть в нем счастливое предзнаменование. Молодость и страсть, жившая в нем, вели его к славе.
Это было 20 августа 1924 года. «Глубокая синева отражалась в черной поверхности Большого канала, едва приметно плескавшегося», — рассказывает Лифарь в своих воспоминаниях. В воздухе веяло той мирной, чистой и созерцательной мягкостью, которая часто свойственна великим свиданиям. Все казалось юноше пленительным, и прежде всего — сам Дягилев, который превратился «в гордого и счастливого венецианского дожа».
Они провели в Венеции пять дней, и все это время с лица «адвоката» «Русского балета» не сходила счастливая улыбка. Он любил греться под ласковым итальянским солнышком, устроившись за столиком кафе «Флориан» на площади Святого Марка, и чувствовал себя там как дома. Из суеверия он никогда не позволял своему любимцу проходить между двумя колоннами на Пьяццетте».
После Венеции они приехали в Падую. Лифарь вспоминает:
«Здесь, в Падуе, завершилось мое перерождение красотой и искусством, здесь, в городе Святого Антония, был заключен мой вечный союз с Дягилевым».
С этого момента Лифарь начал жить исключительно танцем и Сергеем Павловичем.
Что это была за жизнь? Можно только догадываться, но, похоже, в ней перемешались и ревность Дягилева, и его отеческая забота о Лифаре, и капризы стареющего маэстро, и его стремление довести своего юного друга до совершенства. На страницах книги «Дягилев и с Дягилевым» Лифарь пишет:
«Часто в минуты приливов нежности — таких минут было особенно много в 1925 и 1926 годах, когда казалось, что наша дружба бесконечна, когда из нас обоих никто не думал ни о смерти, ни о горе, ни о конце дружбы, когда казалось, что мир был создан для нас и только для нас, — мой Котушка (так ласково называл Лифарь Дягилева), мой громадный и нежный Котушка, останавливая не только движение, но и движение дыхания и мысли восклицал: «Сережа, ты рожден для меня, для нашей встречи! «».
Однако как бы ни хотелось Лифарю оставаться единственным дягилевским возлюбленным, за это право столь же настойчиво, как и он, боролся и другой приближенный Дягилева — Борис Кохно.
Владимир Федоровский пишет:
«Дягилев уехал в Монте-Карло, а Лифарь — в Париж, где вся труппа должна была собраться в начале сентября.
Но, когда 31 августа руководитель «Русского балета», в свою очередь, вернулся в столицу в сопровождении друзей — Антона Долина и Бориса Кохно, — Лифарь сразу почувствовал, что между ним и его возлюбленным вырастает «живая стена». С разговорами с глазу на глаз было покончено. И вот, после проведенных в Италии сладостных мгновений, он оказался погруженным в еще более мучительное одиночество, чем то, которое испытывал в Турине.
Пробудился демон ревности…