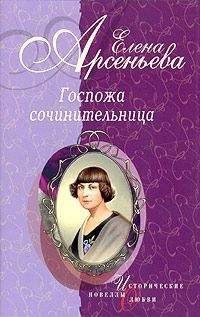Зинаида Гиппиус - Дмитрий Мережковский
Б. Савинков скоро приехал к нам, а потом и мы были у него раза два-три на белой вилле «Vera». Странно там как-то чувствовалось: новая его жена, толстый, орущий младенец — и рядом белоснежная комната, постель, где лежит вся белая, воздушная Мария Ал., с уже совсем неземным лицом, нездешними глазами и нежной улыбкой.
Раз мы застали у него Плеханова — того самого видного партийца-меньшевика, о котором я упоминала. Он был такой давнишний эмигрант, что уж и дочери его не знали по-русски, как дочери Герцена (мы одну где-то видели). Он был очень культурен, имел вид европейца и нисколько не походил на революционера. О печальном конце его в России, едва воцарились большевики, я тоже говорила, кажется.
К Бунакову (он был с нами) и Савинкову относился он тогда с чуть заметной, покровительственной насмешливостью. А Савинков волновался, проводил идею (?) соединения двух партий в одну, с сохранением отдельной «боевой организации на суровых моральных началах».
После нескольких свиданий этой весной с Савинковым Д. С. сказал мне как-то:
— Знаешь, Савинков мне кажется более бессознательным, чем я думал. Кроме того — он индивидуалист, и довольно-таки безнадежный. Эти крайние индивидуалисты, не способные даже умом понимать, что такое общность, не видят обычно ничего вокруг себя, видят только свое «я».
Было похоже на правду, но мне еще не хотелось ставить на Савинкове крест. И, хотя я понимала, что Д. С. говорит не об «эгоизме», — хуже, — я пыталась Савинкова защищать.
Вернулись мы в Россию к лету, на дачу, где нас ждали сестры и Оля Флоренская. Дача была, этот год, не очень приятная, в глуши, но мы на ней прожили недолго. Д. Ф. отправился лечить свою печень на кавказские воды, в Ессентуки, а когда курс леченья он кончил, — мы съехались с ним в Кисловодске, где провели, очень хорошо, всю осень.
В Петербурге нас ждала довольно бурная и важная зима (1913–1914). Еще осенью мы виделись со старыми друзьями, — которые друзьями уже не были. С Бердяевым, — далеко на сто верст. С Борей Бугаевым (Андреем Белым), — этот еще дальше. Он, ярый штейнерианец, вернулся в Россию в этом году лишь ненадолго, для лекций Штейнера в Гельсингфорсе. Боря и с виду был другой. Наша старая няня его не узнала: «А неужели это Борис Николаевич? Ни волос, ни зубов…» Он действительно потерял свой золотистый пух на голове, очень к нему в молодости шедший: точно юный желтенький цыпленок.
За столом, вечером, — бесконечные дифирамбы Штейнеру, споры с Д. С. Видели мы тогда впервые и жену Бугаева, которую он тоже посадил к Штейнеру и там бросил, когда, через два года, бросил, с проклятиями, и Штейнера.
Д. С. кончал в это время «14 декабря» и подготовлялся к другой большой работе.
С Розановым в эту зиму мы совсем разошлись. Он, как всегда, писал в «Новом времени», но одновременно стал писать статьи в «Русском слове» под прозрачным псевдонимом «Варварин», притом довольно противные. Статья Д. С. «Свинья-матушка» была ответом на розановскую, где он так называл Россию и русского человека, — без лести… однако она кончалась:
Но и такой, моя Россия,
Ты всех краев дороже мне…
Вот это Д. С. понимал, а не грубую розановскую брань. Даже Струве, в «Русской мысли», обличал Розанова, печатая рядом выдержки из статей его, которые друг друга уничтожали.
Когда же началось дело Бейлиса (известное обвинение какого-то неимущего еврея, что он будто бы содействовал убийству маленького Ющинского, чтобы евреи, по своему обряду, могли выпить его кровь), Розанов принялся писать в «Земщине», самой черной, всеми презираемой газетке. Редакторы «Земщины», конечно, обрадовались, заполучив такого сотрудника. Но, по совершенной своей ископаемости и примитивной грубости, не понимали, что Розанов по существу пишет за евреев, а вовсе не против них, защищает Бейлиса — с еврейской точки зрения. Положим, такая защита, такое «за» было тогда, в реальности, хуже всяких «против». Недаром даже «Новое время» этих статей не хотело печатать. Да и не одним «архаровцам» из «Земщины» было трудно понять Розанова: он имел способность говорить интимно об отвлеченном, что делало его теории убедительными для тех, кто могли их принять, и легко обманывало других, которым и не нужно знать их. Однако все это создавало отвратительную около Розанова атмосферу, и нам пришлось подумать о публичном исключении Розанова из Р.-Ф. Общества, где он состоял, по старой памяти, членом-учредителем, хотя почти никогда туда не ходил.
— Не уверяла ли ты сама, — говорил мне Д. С., — что к Розанову обычные мерки неприложимы, что он — особое «явление»? Какой человек мог бы так публично распахиваться, как он в своих последних книгах, в «Уединенном» и «Опавших листьях»? И разве не искренне объявил он: «А нравственность, — не знаю даже, через ђ или через е это слово пишется?» Как же его судить?
Я резонно возразила, что его и не судят, но раз он действует в Обществе, где люди живут и действуют по иным правилам, т. е. идет «в монастырь со своим уставом», то его, не судя, просто отвергают. «Да ты не думай, — прибавила я, — что ему исключение? ему все равно!» И грандиозное заседание, где Розанова исключили, состоялось. Были у него и защитники, к удивлению — тот же Струве, который его обличал в «двурушничестве». Карташев, председатель, неожиданно взвился против Розанова, доказывая его антиобщественность.
Вообще зима эта была очень бурная и очень странная: как будто что-то висело в воздухе над всеми и над каждым, какие-то «страхи и ужасы» (по Гоголю), совершенно неопределенные. Люди спешили и метались, не понимая, зачем, и что с ними делается. Блок ходил с трагическим лицом, а когда я его спрашивала, в чем дело, — отвечал, что это «несказанно». Посвятил только мне одно из лучших своих стихотворений: «Мы — дети страшных лет России…» Д. С. спасался работой, но к весне он первый стал стремиться уехать, и мы, на этот раз сразу втроем, уехали сначала в Париж, потом снова в Ментону.
Там еще жили Бунаковы, а Савинкова в Сан-Ремо не было. Мария Ал. прошлым летом умерла, и он с семьей переехал в Ниццу. В этот наш приезд на Ривьеру (весной 14-го года) мы его почти не видали. Бунаков рассказывал, что он все время пишет стихи, очень мрачного содержанья, и сам находится в состоянии духа не менее мрачном.
Кстати о Марии Алексеевне: летом, не прошлым, когда она умерла, а позапрошлым, после того, как мы ее видели в последний раз на вилле Vera, к нам на дачу под Петербургом приехал ее отец. В картузе, в синем полукафтанчике каком-то, как мещане одеваются, да он и был мещанин-волжанин, не помню из какого города. Лицо самое простецкое, русское, и говор такой же. Оказывается, был у нее, сразу увидал, что «не жилица», и стал думать, как бы ее в родной земле схоронить, когда «придет час». Нас все удивило: и как он в Сан-Ремо добрался, и эта мечта (неисполнимая, конечно) тело «домой» перевезти, и, главное, что у такого — вдруг такая Марья Алексеевна! Д. С., впрочем, последнему не удивлялся: уверял, что из народа, с Волги, выходят вот эти удивительные девушки, крепкие характером и сильные душой. Прокофьева к нам, очевидно, Савинков направил, но о Савинкове он ничего не говорил.