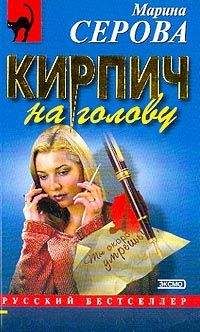Лидия Иванова - Воспоминания. Книга об отце
Эта вера, верней этот внутренний онтологический опыт реальности и действия памяти в мире и в душе человека, стала звеном, которое духовно сблизило молодого ищущего философа с Вячеславом. Память — центральный мотив поэзии и всего мировоззрения Вячеслава. Знакомясь с его произведениями — много лет до личной встречи — Фламинго чувствовала, что он говорит своим языком о том, что и ей созвучно. Поэтому знаменательна та лекция Вячеслава в Обществе Свободной Эстетики, о которой я вспоминала раньше и которая так поразила молодую Фламинго в Москве[193]. 3 апреля 1910 г. Вячеслав пишет Блоку, горячо уговаривая его принять участие в заседании «Поэтической Академии» в Петербурге. Замечательно в этом письме то, как Вячеслав отвечает Блоку на его слова, что его никто не понимает:
Само собою разумеется, что меня мало понимают; ведь и Вас, вероятно, не вполне поймут. Но я не боюсь (и Вам бояться не советую) этого непонимания; поймут двое — трое, зато те, кому это жизнь. И кроме того, учесть все же нельзя, как отзовется наше слово. Во всяком случае, оно о жизни и вносит жизнь туда, где в ней нужда[194].
Это была петербургская лекция, которую он раньше читал в Москве. Не была ли Фламинго в тот вечер в Москве одной из таких «двух — трех»?
Когда впоследствии Фламинго приехала в Италию, она стала не только «мудрым экзегетом» поэта, но и «спутником» на той же духовной тропе, творчески угадывающим, куда путь ведет. Вячеслав так пишет об этом:
Тебе, хранительный мой гений,
Душевных ран и плоти врач,
Вождь в сумерках моих видений,
Земной судьбы моей толмач;
Тебе, кто, за чертой явлений,
Небесных помнишь мир селений
И слышишь ангелов полет,
Житейский правя обиход
Смиренномудро, безымянно, —
Затем что, кто ты, несказанно, —
Как звать тебя, сказал бы тот,
Кто слышал ангелов полет.
* * *
Эта духовная и умственная устремленность не мешали Ольге Александровне быть крайне практичной в жизни. Она была всегда направлена на заботы о ком‑нибудь: либо помогала кому‑то выпутаться из трудностей, либо лечила больного, либо прилагала все усилия, чтобы освободить арестованных (во время революции). В этом она часто действовала сообща со своим дядей, знаменитым пианистом Давидом Соломоновичем Шором. Она сопровождала его, когда его приглашали к влиятельным личностям в Кремль. Давид Соломонович там обыкновенно завораживал всех своей игрой на рояле, а затем, в минуту эйфории, заговаривал о каком‑нибудь заключенном приятеле и нередко добивался его освобождения.
Об одном из самых драматических спасений в те страшные годы, на этот раз не с помощью дяди, а с помощью поэта Балтрушайтиса, ставшего литовским послом в Москве, Ольга сама рассказала в комментариях к Собранию сочинений В. И.:
Весною 1919 г. ко мне неожиданно обратился близкий друг Юргиса Казимировича, который был и моим близким другом: «Прошу Вас о большой услуге». Я вопросительно на него посмотрела: он казался немного смущенным. — «Вы ведь знаете, что Юргис страдает запоем?» — «Ничего такого не знаю». Наш друг продолжал: «В нормальное время Юргис снимал на стороне маленькую квартирку, куда порою скрывался дня на три, чтобы беспрепятственно одному пить. Появлялся потом спокойным и трезвым. В революционную пору я стал предоставлять ему мою квартиру. Но мне теперь необходимо уехать, по крайней мере на полгода. Вот ключ от моей квартиры. Возьмите его; когда Юргис будет просить, ему выдавайте, но потом отбирайте сразу». Я попыталась отказаться: «Помилуйте, такое поручение, ответственное…» — «Если хотите помочь Балтрушайтису, не отказывайтесь. С такою просьбою я могу обратиться только к Вам». Он дал мне ключ и уехал. Через несколько дней телефонный звонок: голос Балтрушайтиса: «Можно прислать за ключом?» — «Вернете сразу?» — «Обещаю». И действительно: дня через четыре опять звонок: «Можно Вам вернуть ключ?» И ключ появился. Я поспешила на квартиру: никаких следов попойки; ни одной бутылки, ни одного стакана. В комнатах полный порядок. Такие посещения пустой квартиры повторялись приблизительно каждые пять недель. К зиме благополучно вернулся хозяин квартиры. Мы с Балтрушайтисом о ключе том никогда не говорили.
Осенью 1921 г., месяца через три после того, как Балтрушайтис стал полномочным послом, я отправилась к нему на прием по делу каких‑то знакомых. Было часов одиннадцать. Прием начинался в десять. Посол еще не пришел. Странно: Балтрушайтис отличался педантичной точностью в исполнении своих обязанностей. «Уж не пьет ли он где‑нибудь», — мелькнуло у меня в голове. Посольство помещалось в прелестном частном особнячке близ Знаменского переулка. Из палисадника нарядная входная дверь прямо вела в абсидальный зал. Против главного входа, в глубине, у стены — диван и несколько кресел. Над главным входом — большие, круглые, бросающиеся в глаза часы. Вдруг, в половине двенадцатого входные двери с шумом распахнулись, и ворвалось человек пятнадцать в ужасном возбуждении: «Посла! Скорее посла!» Их старались успокоить: «Его нет. Он сейчас придет». Пришедшие не успокаивались, требовали, кричали. Волнение их было вполне оправдано. Девять человек родом из Литвы были приговорены к расстрелу, назначенному на двенадцать часов этого самого дня. Оставалось минут тридцать. Принадлежность к литовской нации определялась местом рождения и удостоверялась свидетельством посла. Иностранцы смертной казни не подвергались. Документы все были готовы, не хватало лишь подписи Балтрушайтиса. Безумно волновавшиеся люди были отцами, матерями, женами, сыновьями приговоренных к смерти. Рыдания, мольбы, призывы…
Сидя против входной двери, я с ужасом следила за часами. «Он, наверное, где‑нибудь заперся и пьет. 3нает ли хоть кто‑нибудь — где? Или — Бог милостив — он кончил и вот — вот появится». Без десяти, без пяти минут двенадцать, без четырех… Входная дверь отворилась, и быстро вошел Балтрушайтис. Оставалось три минуты. Спешно принялись звонить соответственным комиссарам. В последнюю секунду казнь была отменена.
Когда всё успокоилось и все разошлись, я вошла к Балтрушайтису. Он сидел за своим письменным столом, низко опустив голову. Потом медленно ее поднял, глухо сказал: «Этого больше никогда не будет»… С того дня он совершенно перестал пить даже в обществе. Знакомые его удивлялись: на званых обедах литовскому послу, компанейскому участнику тостов, вместо вина и ликеров подавали стакан простой воды.
* * *Фламинго в молодости, хотя этого не показывала, была гордая: она считала, что на свете есть люди — действительно люди, а остальные составляют массу «бипедов», как она их величала. С годами она стала менее категоричной. «Бипедам» отдавала все силы, когда могла им в чем‑нибудь помочь, но существенно общалась лишь с настоящими людьми, избранными современниками или историческими крупными личностями.