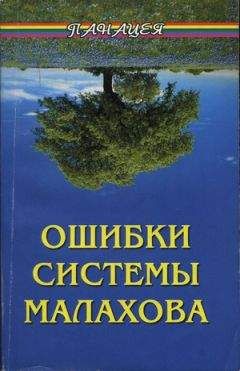Федор Шаляпин - Маска и душа
— «За отлично-усердную службу»…
Какъ много въ этихъ нѣсколькихъ словахъ сказано! Что надо было вынести и перетерпѣть за эту «отлично-усердную» службу. И переходы, и траншеи, и адскiй огонь, и холодныя ночи, и недостатокъ снарядовъ, и открытая, беззащитная грудь… И вотъ — послѣднее усердiе, послѣднее отличiе: деревянный крестъ въ Саконтянскомъ лѣсу надъ могилой неизвѣстнаго солдата…
Въ Петербургѣ и Москвѣ, между тѣмъ, съ каждымъ днемъ становилось все скучнѣе и унылѣе. Для поддержанiя, должно быть, духа и бодрости въ Петербургъ прiѣхали выдающiеся представители союзной Францiи — Рене Вивiани и Альбертъ Тома. Петербургъ встрѣтилъ ихъ съ особенной теплотой. Отношения между обществомъ и властью были въ то время чрезвычайно напряжены. Для успѣшнаго веденiя трудной войны необходимо было «единенiе царя съ народомъ», какъ тогда говорили. Дума билась изо всѣхъ силъ, чтобы это единенiе наладить. А гдѣ то, въ высшихъ сферахъ, темныя интриги близорукихъ царедворцевъ пропасть между царемъ и народомъ все болѣе углубляли. И Вивiани, и Тома принадлежали къ лѣвому крылу французскихъ политическихъ деятелей. Ихъ участiе въ правительствѣ Францiи служило какъ бы предметнымъ урокомъ нашему Двору. Вотъ, смотрите, какъ едина Францiя! Въ Петербургѣ, помнится, поговаривали даже, что одной изъ цѣлей прiѣзда французскихь министровъ является желанiе повлiять въ этомъ духѣ на наше правительство, въ интересахъ войны. Какъ бы то ни было, французовъ приняли восторжено. Имъ устроили, между прочимъ, пышный и торжественный обѣдъ у Контана. Говорили прекрасный рѣчи, пили за побѣду до конца, обнимались и лобызались. Къ концу обѣда я запѣлъ «Марсельезу» къ большому восторгу французскихъ гостей и русскихъ хозяевъ… Брежжилъ темносинiй утреннiй свѣть, когда я въ 6 часовъ утра покинулъ праздникъ. Петербургъ одевался въ морозно-молочный туманъ. Я шелъ къ себѣ на Каменностровскiй — домой. И этотъ вечерь, такой искреннiй и веселый, остался бы въ моей душѣ безоблачно-радостнымъ воспоминанiемъ, если бы мой россiйскiй снѣгъ, въ это холодное россiйское утро, не хрустѣлъ бы подъ моими ногами съ особеннымъ какимъ то прискрипомъ, въ которомъ мнѣ слышалось: усердная, усердная, усердная служба… Хрустѣлъ подъ ногами россiйскiй снѣгъ въ туманное петербургское утро, и вспоминался мнѣ деревянный кресть и ухарски, на бекрень, надѣтая на него пустая солдатская шапка… Усердная, усердная, усердная…
54Съ каждымъ днемъ становилось, между тѣмъ, яснѣе, что Россiя войну проигрываетъ. Всѣ чувствовали, что надвигается какая то гроза, которую никто не рѣшался называть революцiей, потому что не вязалось это никакъ съ войной. Что то должно произойти, а что именно — никто не представлялъ себѣ этого ясно. Въ политическихъ кругахъ открыто и рѣзко требовали смѣны непопулярнаго правительства и призыва къ власти людей, пользующихся довѣрiемъ страны. Но какъ на зло, непопулярныхъ министровъ смѣняли у власти министры, еще болѣе непопулярные. Въ народѣ стали говорить, что война неудачна потому, что при Дворѣ завелась измѣна. Любимца Двора, страннаго человѣка Григорiя Распутина, молва признала нѣмецкимъ агентомъ, толкающимъ Царя на сепаратный миръ съ Германiей. Раздраженiе было такъ велико, что молва не пощадила самоё Царицу. На счетъ этой больной и несчастной женщины распространялись самые нелѣпые разсказы, которые находили вѣру. Говорили, напримѣръ, что она сносится съ Вильгельмомъ II «по прямому проводу» и выдаетъ ему государственныя тайны. Солдаты на фронтѣ считали дурной приметой получать изъ рукъ Царицы георгiевскiй крестикъ — убьетъ немецкая пуля…
Въ это время пришелъ однажды въ мой домъ секретарь Распутина съ порученiемъ отъ «старца». Не заставъ меня дома, онъ передалъ моей женѣ, что Распутинъ желаетъ со мною познакомиться и спрашиваетъ, какъ мнѣ прiятнѣе — прiѣхать къ нему или принять его у себя? Желанiе Распутина меня очень удивило. Что ему отъ меня нужно было, я не понималъ. Онъ должно быть, считалъ просто неудобнымъ, что такiя двѣ знаменитости, какъ онъ и я, между собою незнакомы… Такъ какъ я слышалъ, что этотъ человѣкъ бываетъ грубъ въ обращенiи даже съ высокопоставленными людьми, то знакомство это меня не прельщало. Скажетъ онъ мнѣ какую нибудь грубость или что нибудь обидное, я, вѣдь, скажу ему что нибудь еще полновѣснѣе, и дѣло, пожалуй, кончится дракой. А драться съ людьми безъ крайней надобности вообще неприятно, особливо съ людьми, обласканными при Дворѣ. Отъ встрѣчи я, подъ какимъ то предлогомъ, отказался.
Вскоре я услышалъ, что во дворцѣ Юсупова произошла драма. Кто то кого то кусалъ, кого то зашивали въ мѣшокъ и съ камнемъ на шеѣ спускали въ Неву. Это убили Распутина.
Вѣроятно, этотъ фактъ еще болѣе укрѣпилъ мнѣнiе народа, что при Дворѣ таится измѣна: ее, дескать, замѣтили, признали и за нее отомстили люди, близкiе къ Царю. Значить, все, что разсказывали — правда! Событiя стали развертываться со страшной быстротой. Въ столицѣ не хватало продовольствiя, образовались хвосты, въ которыхъ люди заражали другъ друга возмущенiемъ. Заволновались солдаты въ казармахъ. Какой то солдатъ застрѣлилъ въ строю офицера. Вышелъ изъ повиновенiя весь полкъ. Не стало Императорской армiи. Выпалъ одинъ кирпичъ, и все зданiе рухнуло. Не очень крѣпко, значить, оно держалось.
Изъ окна моего дома я увидѣлъ огромнѣйшiе клубы дыма. Это горѣлъ, подожженный толпой, Окружный Судъ. Началась революцiя. Народъ, представители армiи, флотскiе люди потянулись къ Государственной Думѣ, глѣ прiобщались къ революцiи. Съ царемъ разговаривалъ фронтъ. Столицы зашумѣли въ невообразимомъ нервномъ напряженiи. Закружило. На маленькой станцiи железной дороги между Псковомъ и Петербургомъ, которой какой то невѣдомый пророкъ далъ когда то символическое имя — «Дно» — Царь отрекся отъ престола…
55Я уже говорилъ, что въ жизни, какъ и въ театрѣ нужно имѣть чувство мѣры. Это значитъ, что чувствовать надо не болѣе и не меньше того, что соотвѣтствуетъ правдѣ положенiя. Надо имѣть талантъ не только для того, чтобы играть на сценѣ; талантъ необходимъ и для того, чтобы жить. Оно и понятно. Роль человѣка въ жизни всегда сложнѣе любой роли, которую можно только себѣ вообразить на театрѣ. Если трудно сыграть на сценѣ уже начерченную фигуру того или другого человѣка, то еще труднѣе, думаю я, сыграть свою собственную роль въ жизни. Если я каждую минуту провѣряю себя, такъ ли пошелъ, такъ ли сѣлъ, такъ ли засмеялся или заплакалъ на сценѣ, то, вѣроягно, я долженъ каждую минуту провѣрять себя и въ жизни — такъ ли я сдѣлалъ то или это? Если на сценѣ даже отрицательное должно выглядѣть красиво, то въ жизни необходимо, что бы все красиво выходило…