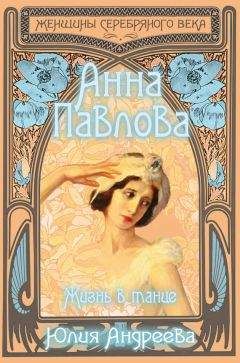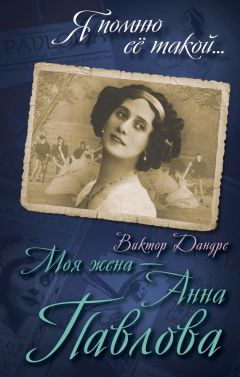Петр Стегний - Хроники времен Екатерины II. 1729-1796 гг.
В начале декабря Дидро и Гримм были приняты в российскую Академию наук.
— Поздравь меня, теперь я трижды академик, — говорил Дидро своему другу. — Я член Берлинской академии, а с 1767 года — член-корреспондент петербургской Академии художеств.
— Не понимаю твоего ликования, Дени, — отвечал Гримм. — Много ли чести состоять в Академии, в стенах которой ученых людей меньше, чем в салоне мадам д’Эпине?
— У русских академиков только один недостаток, — отвечал ему Дидро.
— Они немцы, — быстро продолжил Гримм.
— И твои соотечественники.
В середине месяца наконец-то ударил мороз. Нева встала. Екатерина простудилась, но несколько дней превозмогала болезнь, посещая заседания Совета. Болезнь, однако, не отступала, и в конце декабря доктора уложили императрицу в постель. Несколько дней она не выходила из своих комнат.
Вечера Дидро освободились. Новый год он встретил в семье Нарышкина, бывшего в числе весьма немногих истинных почитателей и ценителей таланта Дидро в России.
Как-то вечером, после ужина, который по петербургскому обычаю был многолюдным и шумным, Дидро, постучав ножом по хрустальному бокалу, попросил внимания.
— Месье Нарышкин, — сказал он, обращаясь к хозяину дома, — я подготовил для вас новогодний подарок. Это небольшая театральная сценка, которая, возможно, подойдет для вашего театра. В ней два персонажа — вельможа и кредитор.
С этими словами Дидро вытащил из бокового кармана сложенный вдвое лист бумаги, расправил его и принялся читать.
Вельможа. А! Это вы!
Кредитор. Да, Ваше превосходительство.
Вельможа. В чем дело?
Кредитор. Я пришел, чтобы…
Вельможа. Садитесь, пожалуйста!
Кредитор. Много чести, Ваше превосходительство. Я пришел, чтобы…
Вельможа. Да сядьте же вы, говорю вам! Что, вы озябли?
Кредитор. Я принес ввиду истечения срока векселя…
Вельможа. А не хотите ли чаю? Выпейте чайку!
Кредитор. Если бы Ваше превосходительство были так добры…
Вельможа. Вы любите музыку?
Кредитор. Да… Немножко, Ваше превосходительство.
Вельможа. Может быть, и сами играете на каком-нибудь инструменте?
Кредитор. Нет, Ваше превосходительство.
Вельможа. Но хорошая игра доставляет вам удовольствие?
Кредитор. Точно так, Ваше превосходительство.
Вельможа. Подать скрипку!
Кредитор. Но я пришел, Ваше превосходительство…
Вельможа. Ну, как вам нравится моя игра?
Кредитор. Превосходно! Но я пришел, Ваше превосходительство…
Вельможа. Да, слышу. Зайдите в другой раз».
Кредитор зашел и в другой раз, но вельможа отказался с ним говорить. Зашел в третий — вельможа рассердился; в четвертый — и был встречен бранью. В пятый раз кредитор был принят так, что в шестой он уже не вернулся».
При этих словах и сам Нарышкин, и его гости разразились громким смехом. Смеялись даже те, кто не знал, что сцена была списана с разговора самого Семена Кирилловича с портным, шившим ему новый камзол.
Не смеялся только один из гостей, прилично одетый молодой человек с не по возрасту обрюзгшим, одутловатым лицом.
— Сценка совершенно в наших нравах, — сказал он негромко, когда смех стих.
Молодой человек служил в канцелярии графа Панина. Звали его Денис Иванович Фонвизин.
6В середине января в одной из приемных зал Зимнего дворца было найдено подметное письмо, адресованное в собственные руки императрицы. Аноним, подписавшийся «честным человеком», предупреждал Екатерину, что Сенат состоит из плутов и что, в особенности генерал-прокурор вовсе не заслуживает народного доверия. Автор письма советовал императрице сменить всех сенаторов, иначе она сама подвергнется опасности лишиться престола.
Было положено немало трудов, чтобы открыть автора письма. Генерал-полицмейстер объявлял даже, что «человек, потерявший письмо во дворце», может явиться в назначенный день к гофмаршалу, не опасаясь последствий. Никто, однако, не пришел, и письмо было сожжено палачом перед зданием Сената. Над лицами, являвшимися ко двору, учредили бдительный надзор. Вышло распоряжение допускать во внутренние апартаменты лишь находившихся в майорском ранге и выше.
Разумеется, столь важный инцидент не мог ускользнуть от пытливого взора Дюрана.
— Публика была поражена сожжением в прошлую пятницу рукой палача письма, написанного императрице каким-то анонимом, — писал он в депеше герцогу д’Эгильону от 17 января. — Она назвала его «честным человеком» в письме, которым он приглашался объявить свое имя и явиться к ней. Один из моих знакомых сказал в тот же день по этому поводу: императрица весьма умна, но в кризисе, в котором она очутилась, не знает, куда кинуться. Она советуется с людьми, которые ее окружают и которые из вероломства или невежества заставляют ее пускаться во всякие авантюры. До оглашения Указа о так называемом Петре III никто не осмеливался говорить об этом бунтовщике, сегодня же эта тема обсуждается во всех салонах и кабаках, где задаются вопросом, жив или мертв тот, чье имя взял самозванец… Дух восстания распространяется по всей империи, во всех классах общества. Если в этих условиях осмелятся объявить набор рекрутов, все вспыхнет. Как утверждают в придворных кругах, со времен стрельцов здесь не случалось более сильного кризиса, так как никогда еще после их восстания знамена бунтовщиков не развевались в столь отдаленных областях страны. Объявлено, что если появятся новые анонимные письма на имя императрицы, то все они будут преданы огню прежде, чем будут распечатаны[93].
В этот-то момент Никита Иванович и совершил поступок, окончательно определивший его отношения с императрицей.
В конце января, сразу же после поступления в Петербург известия о ратификации польским Сеймом раздельного договора, он вызвал в свой кабинет секретарей Дениса Фонвизина, Якова Убри и Петра Бакунина и объявил, что дарит им пожалованные ему в новоприобретенных польских областях войтовства Нащанское, Лиснянское и Клещинское.
Встретив Никиту Ивановича на утреннем выходе, императрица сказала ему:
— Я слышала, граф, что вы расточали вчера свои щедроты подчиненным?
— Не понимаю, о чем ваше величество изволите говорить, — сухо отвечал Панин.
— Разве вы не подарили несколько тысяч душ своим секретарям?