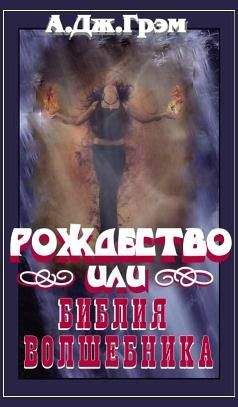Борис Носик - Тот век серебряный, те женщины стальные…
Собственно, это не так уж сильно отличается от общедоступной версии, в которой описан самый первый его, так сказать, экспериментальный визит к незнакомой поэтессе (в отсутствии Шилейко, Пунина, Циммермана и прочих свидетелей):
Стучал долго и упорно, но кроме свирепого собачьего лая… никого. Ключ в двери — значит, дома кто-то есть. Подождал минут пятнадцать, собака успокоилась. Постучал еще, собака залаяла, и я услышал шаги. Открылась дверь — и я повстречался нос к носу с громадным сенбернаром. Две тонкие руки из темноты оттаскивали собаку… Глубокий взволнованный голос: «Тап! Спокойно! Тап! Тап!» Собака не унималась. Тогда я шагнул в темноту и сунул в огромную пасть сжатую в крепкий кулак руку. Тап, рыкнув, отступил, но в то же мгновение я не столько увидел, как ощутил, как те самые руки медленно соскальзывали с лохматой псиной шеи куда-то совсем вниз, и я, едва успев бросить свой портфель, схватил падающее, обессиленное легкое тело.
Не очень ясно, чем было обессилено тело, но известно, что будущий Эккерман понес это, как известно, довольно длинное тело в кровать и тут оно все, кажется, и началось — секретная работа, любовь, сбор сведений о Гумилеве, Ахматовой и их круге, уход за обессиленной женщиной, коллекционирование гумилевского архива, литературная учеба и создание того, что люди завистливые называют «мифом об Ахматовой». Это длилось без малого пять лет, после чего молодой Эккерман получил новое, еще более ответственное разведзадание и стал работать над укреплением погранзастав. Таким образом, основы биографии Ахматовой были заложены еще Лукницким под диктовку Ахматовой, после чего работа была продолжена под наблюдением Ахматовой же ее подругой Валентиной Срезневской, дочерью Корнея Чуковского Лидией и другими.
Время, конечно, с середины двадцатых годов выдалось Аматовой трудное. Стихи не шли, но может, это было не самое страшное, ибо поэты исчезали куда-то среди бела дня. К тому же напечатать что-нибудь не барабанно-маршевое оказалось делом трудным, а то и вовсе невозможным. Так что уж лучше было сидеть тихо и заниматься чем-либо беспартийным, вроде любви к мужчинам, женщинам или тем и другим одновременно. Тем более что Ахматовой не писалось, и «личная жизнь» как бы заступала всякую другую. Эта личная жизнь была непростой. В новую фазу вступил роман с Пуниным, в чьей прежней семье она теперь жила. Как уже говорилось, прочной стала ее любовная связъ с молодым Лукницким, а также с театральным деятелем Циммерманом. Со временем вокруг знаменитой Клеопатры северной русской столицы сложился двор почитателей и прислужников. Эти люди помогали ей выжить и были в нее влюблены. С иными из них можно было говорить по душам даже в тогдашнем Ленинграде, где (как, вероятно, и повсюду в России) из всякой полдюжины собеседников один наверняка оказывался доносчиком. Об этом все догадывались, а многие знали наверняка, так что все жили в страхе. Следовало помалкивать и остерегаться, но нужда в общении была неодолима. В предисловии к книге Лидии Чуковской, посвященной ее многолетнему общению с Ахматовой, описан «прекрасный и горестный» обряд интеллигентского общения в довоенном и послевоенном Ленинграде. Позволю себе привести это описание:
…имена Ежова, Сталина, Вышинского, такие слова, как умер, расстрелян, выслан, очередь, обыски… встречались в наших беседах не менее часто, чем рассуждения о книгах и картинах. Но имена великих деятелей застенка я старательно опускала… Застенок, воплотивший материально целые кварталы города, а духовно — наши помыслы во сне и наяву, застенок, выкрикивающий собственную ремесленно сработанную ложь с каждой газетной полосы, из каждого радиорупора, требовал от нас в то же время, чтобы мы не поминали имени его всуе даже в четырех стенах, один на один. Мы были ослушниками, мы постоянно его поминали, смутно подозревая при этом, что и тогда, когда мы одни, — мы не одни, что кто-то не спускает с нас глаз или, точнее, ушей. Окруженный немотою, застенок желал оставаться и всевластным, и несуществующим зараз; он не хотел допустить, чтобы чье бы то ни было слово вызывало его из всемогущего небытия; он был рядом, рукой подать, а в то же время его как бы и не было; в очередях женщины стояли молча или, шепчась, употребляли лишь неопределенные формы речи: «пришли», «взяли»; Анна Андреевна, навещая меня, читала мне стихи из «Реквиема» тоже шепотом, а у себя в Фонтанном Доме не решалась даже на шепот; внезапно, посреди разговора, она умолкала и, показав мне глазами на потолок и стены, брала клочок бумаги и карандаш; потом громко произносила что-нибудь очень светское: «хотите чаю?» или: «вы очень загорели», потом исписывала клочок быстрым почерком и протягивала мне. Я прочитывала стихи и, запомнив, молча возвращала их ей. «Нынче такая ранняя осень», — громко говорила Анна Андреевна и, чиркнув спичкой, сжигала бумагу над пепельницей. Это был обряд: рука, спичка, пепельница, — обряд прекрасный и горестный.
Не вдаваясь в дискуссию с Л. К. Чуковской о том, что там было прекрасного в том унизительном страхе, который я и сам слишком хорошо помню, уточню только, что муж самой Л. К. Чуковской был арестован и расстрелян ни за что ни про что, сын А. А. Ахматовой и Гумилева (растить которого она так и не нашла времени) был арестован и раз, и два, и три, провел большую часть молодой жизни в тюрьмах и лагерях. Расстреляны были и замучаны в лагерях многие из былых друзей или возлюбленных Ахматовой (Мандельштам, Пильняк…) Она жила в страхе, была человек робкий и, может, поэтому к началу новой оставалась уважаемым и даже вполне привилегированным членом Союза писателей. После долгого молчания она, подобно Мандельштаму, Пастернаку и всем прочим советским писателям, решившим выжить (кто решится их попрекнуть этим желанием?) написала какие-то гимны Сталину и что-то еще рифмованно-патриотическое… Она не была ни «мужественной», ни «героической», она была женственной и осторожной.
В войну, когда начались бомбардировки Ленинграда, робкая пятидесятилетняя Ахматова, которая уже и до войны боялась одна переходить улицу, пришла в такой ужас, что даже после «отбоя» отказалась выходить из бомбоубежища на свет Божий. Руководство ленинградского отделения Союза писателей в панике попросило прислать специальный самолет с сопровождением, чтобы вывезти Ахматову в тыл… Ее торжественный отъезд произвел большое впечатление на ленинградских литераторов. «Их самолет эскортировали семь самолетов, — уважительно вспоминала Н. Чулкова. — Она сказала: “Надо было давно уехать”». Сама Ахматова воспела этот перелет в стихах: «Все вы мной любоваться могли бы, / Когда в брюхе летучей рыбы / Я от лютой погони спаслась…» Она действительно спаслась, ибо началась блокада города, и сотни тысяч ленинградцев умерли от голода. Она, впрочем, не возражала, когда ее называли «героической блокадницей». Ахматову вывезли и отправили в глубокий тыл, в «город хлебный» Ташкент, где она была «прикреплена» к самым привилегированным источникам питания, лечения и прочих «жизненных благ». Вообще жизнь в войну выдалась ей вполне терпимая. На ташкентском писательском подворье Ахматова оказалась самой большой знаменитостью (был еще Алексей Толстой, к ней благоволивший, но он жил на особицу), и неожиданно возродилось в ее окружении шальное и беспечное веселье серебряного века. Сперва явились с нежными заботами бедные, потерявшие мужей, любящие ее вдовы Надежда Мандельштам и Лидия Чуковская. Надежда сообщала взахлеб в своих тогдашних письмах, что «Анька» (или даже «Ануш») — «цветет, хорошеет и совершенно бесстыдно молодеет». Впрочем, оказалось, что любовные упования бедной вдовы Нади были преждевременными. Откуда ни возьмись, появилась на подворье блистательная актриса и стала новой нежной подругой Анны Ахматовой. Звали победительницу Фаина Раневская. Это она изгнала из круга Ахматовой не только вдову Мандельштама (которую она звала не иначе как «крокодилицей»), но и верную Лидию Корнеевну Чуковскую, неодобрительно взиравшую на приток молодых лесбианок и ташкентский пир во время чумы. Ахматовой пришлось проявить «верность» новой своей любви и лишиться на долгие годы общества Чуковской. Трехтомник дневников Л. Чуковской, посвященных Ахматовой, — это, конечно, книга о любви (как, скажем, и книги С. Лифаря о Дягилеве), о преклонении, о неотразимости женской красоты, о «величии» возлюбленной, о ревности, о жестоких обидах. И конечно, самой драматический эпизод этой любовной эпопеи предстает в так называемой «Ташкентской тетради». Откроем наугад любую ташкентскую запись: