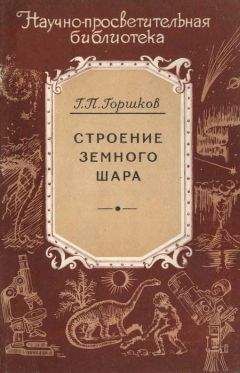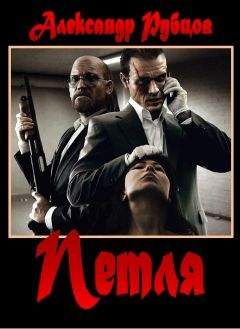Литтон Стрэчи - Королева Виктория
Английская конституция — эта неописуемая сущность — как живой организм растет вместе с людьми и принимает самые разнообразные формы в соответствии с тонкими и сложными законами человеческого характера. Она дитя мудрости и случая. Мудрецы 1688 года отлили ее в известную нам форму, но случайное неумение Георга I говорить по-английски внесло в нее одну из самых существенных странностей — независимый от Короны и подчиняющийся премьер-министру Кабинет. Мудрость лорда Грея спасла ее от окостенения и разрушения и наставила на путь демократии. Затем снова вмешался случай: королеве посчастливилось выйти замуж за способного и целеустремленного человека; и казалось вполне вероятным, что безответственности администрации вот-вот будет положен конец и политическое развитие станы примет несколько иное направление. Но что дано случаем, то он и забрал. Консорт умирает в самом расцвете; и Английская конституция, хладнокровно отбросив отмерший член, продолжила загадочную жизнь, как будто его никогда и не было.
Лишь один человек, и только он, в полной мере ощутил потерю. Барон, сидя в Кобурге у камина, внезапно увидел, как громада его творения рухнула и превратилась в бесформенные руины. Альберт ушел, и жизнь барона прошла впустую. Даже в самой черной ипохондрии не мог он предположить столь ужасной катастрофы. Виктория написала ему, приехала, попыталась утешить, заявив со страстной убежденностью, что продолжит работу мужа. Он печально улыбнулся и посмотрел на огонь. Затем пробормотал, что долго не задержится и скоро сам отправится вслед за Альбертом. Он ушел в себя. Вокруг него собрались дети и, как могли, пытались утешить, но все было бесполезно: сердце барона было разбито. Он протянул еще восемнадцать месяцев и затем, вслед за учеником, отправился в мир теней и праха.
IIС ошеломляющей внезапностью Виктория сменила блаженное счастье на мрачную печаль. В первые ужасные моменты окружающие боялись, что она может потерять рассудок, но железный стержень держался крепко, и было замечено, что в промежутках между приступами печали королева хранила спокойствие. Она помнила, что Альберт никогда не одобрял излишнего проявления чувств, и старалась не делать того, что ему бы не понравилось. И все же случались моменты, когда ее королевскую боль невозможно было сдержать. Однажды она послала за герцогиней Сатерлендской и, приведя ее в комнату принца, рухнула перед его одеждами и разразилась рыданиями, заклиная герцогиню сказать, встречала ли она еще у кого-нибудь столь чудный характер, как у Альберта. Временами ее охватывало чувство, близкое к возмущению. «Подавленная сорокадвухлетняя вдова с совершенно разбитым сердцем, — написала она королю Бельгии, — чувствует себя несчастной восьмимесячной сиротой! Моя жизнь уже никогда не будет счастливой! Мир для меня закрылся!.. О! Быть отрезанной в самом расцвете — лишь созерцание нашей чистой, счастливой, спокойной домашней жизни позволяет пережить это столь ужасное положение; отрезана в сорок два — когда я так надеялась, что Бог никогда нас не разлучит и даст нам состариться вместе (хотя он всегда говорил о скоротечности жизни), — это слишком ужасно, слишком жестоко!» Нельзя не заметить оскорбленного тона королевы. Неужели в самой глубине души она возмущалась тем, что Господь осмелился на такой поступок?
Но над всеми остальными эмоциями преобладало одно всепоглощающее стремление сохранить в абсолютной неизменности, на всю оставшуюся жизнь, почтение, подчинение и преклонение перед этим человеком. «Я не устану повторять одно, — сказала она своему дяде, — и это мое твердое убеждение и мое окончательное решение, а именно, что все его желания, все его планы, все его взгляды должны стать законом моей жизни И никакая человеческая сила не собьет меня с выбранного пути». Она испытывала гнев и ярость при одной лишь мысли о том, что кто-то может ей в этом помешать. Дядя собирался нанести ей визит, и ей пришло в голову, что он может попытаться вмешаться в ее дела, попробует «распоряжаться всем на свете», как бывало раньше. Следует ему об этом намекнуть. «Я также убеждена, — написала она, — что никто — сколь бы добрым и преданным он ни был — не смеет мне советовать или навязывать свою волю. Я понимаю, как это может не понравиться… Как бы ни была я слаба и потрясена, мой дух восстает при мысли о том, что кто-то может затронуть или изменить его планы или желания, или принудить меня к этому». Завершается письмо выражением любви и печали. Она остается его «навеки несчастной, но преданной дочерью, Виктория Р.». И тут она обращает внимание на дату: это было 24 декабря. Пронзенная внезапной болью, она торопливо добавляет постскриптум: «Рождество! Я даже не думать о нем не хочу».
Вначале, разбитая горем, она объявила, что не желает встречаться с министрами, и функции посредника как могла выполняла принцесса Алиса при помощи сэра Чарльза Фипса, распорядителя личными расходами королевы. Однако через несколько недель Кабинет уведомил королеву через лорда Джона Рассела, что дальше так продолжаться не может. Виктория поняла, что они правы: Альберт бы тоже с этим согласился; и она послала за премьер-министром. Но когда лорд Пальмерстон, пышущий здоровьем, энергичный, со свежеподкрашенными бакенбардами, одетый в коричневое пальто, светло-серые брюки, зеленые перчатки, с голубыми запонками прибыл в Осборн, он произвел на нее не слишком благоприятное впечатление.
Тем не менее, она успела привязаться к своему старому врагу, и мысль о политических переменах рождала в ней взволнованную озабоченность. Она знала, что правительство может пасть в любую минуту; она чувствовала, что не может этого допустить; и поэтому через шесть месяцев после смерти принца решается на беспрецедентный шаг — посылает личное письмо лорду Дерби, лидеру Оппозиции, в котором пишет, что ее душевное и физическое состояние не позволит ей пережить заботы, связанные с переменой правительства, и что если он распустит министров, то подвергнет риску ее жизнь или, по крайней мере, рассудок. Когда послание достигло лорда Дерби, он был крайне удивлен. «Ей-Богу! — цинично прокомментировал он. — Я никогда не думал, то она так в них влюблена».
Хотя волнение ее постепенно утихало, жизнерадостность не вернулась никогда. Месяцы и годы проходили в неизменном унынии. Жизнь ее все больше походила на жизнь затворника. Облаченная в строжайший креп, она скорбно переезжала из Виндзора в Осборн, из Осборна в Балморал. Редко появляясь в столице, не принимая никакого участия в государственных церемониях, избегая малейших контактов со светским обществом, она стала столь же неизвестной своим подданным, как какой-нибудь восточный властелин. Пусть говорят все что угодно, им все равно ее не понять. К чему ей эти пустые представления и глупые развлечения? Нет! Она занята совершенно иным. Она, посвященный хранитель святой веры. Ее место у священного алтаря в храме скорби, — куда лишь она одна имеет право входить, где она может ощущать эманацию таинственного присутствия и толковать едва заметные и неуловимые желания все еще живущей души. Это, и только это было ее славной и ужасной обязанностью. Ибо это действительно было ужасно. С годами подавленность углублялась, и все сильнее становилось одиночество. «Я стою на Печальной уединенной вершине», — говорила она. Снова и снова ощущала Виктория, что больше не выдержит, что уступит давлению обстоятельств. Но затем, внезапно, раздавался тот самый Голос: и она снова брала себя в руки И добросовестно возвращалась к своим печальным и священным обязанностям.