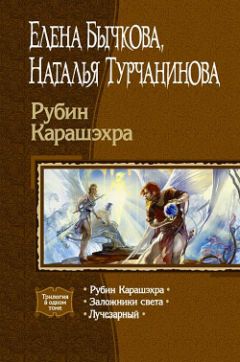Марсель Брион - Дюрер
Крестьяне избирали себе новых вождей. Некоторые из них были просто бессовестными авантюристами, как, например, Ганс Мюллер, возглавивший банды Черного леса, облачившийся в красный дьявольский наряд, на котором не были заметны пятна крови. Другие были подобны наивному идеалисту, пастору Томасу Мюнцеру, поднявшему Тюрингию на «Священную войну». Религиозные теоретики, сторонники умеренных взглядов, как Бальтазар Губмайр, безуспешно пытались удержать движение в рамках справедливых требований, но народную ярость уже невозможно было обуздать. Они были сметены экстремистами на волне слепой ненависти и страсти к разрушению. В качестве эмблемы восстания крестьяне избрали башмак, и этот башмак теперь растаптывал Германию, объятую революцией. Некоторые гуманисты, сочувствующие страданиям народа, рассматривали даже с некоторой симпатией начало восстания, которое, как они надеялись, может принести немного социальной справедливости.
То, что это восстание принесло на самом деле, оказалось пожарами, жестокими расправами и опустошением. Крестьяне, предоставленные собственным инстинктам, больше не прислушивались к разумным советам их вождей или, скорее, слушали только тех, кто говорил на языке насилия, призывая к грабежам и жестокой расправе. Сам Лютер выступил против восставших. Он призвал князей объединиться и подавить мятеж. «Я отдам свою голову на отсечение сто раз, прежде чем поддержу вооруженное восстание, — написал он Иоганну Рюгелю, — и чтобы посмеяться над дьяволом, который заправляет всем этим, чтобы выразить ему свое презрение и разозлить, я даже готов жениться на моей Кэт…» Речь идет о Катерине Бора, и я не уверен, был бы дьявол огорчен или обрадован этим браком, но определенно одно, что свадьба старого Августина с религиозной расстригой не возымела бы никакого влияния на поведение крестьян.
Восстание, наконец, приняло такие угрожающие размеры и вызвало столько бедствий, что было необходимо его срочно подавить. Подавление было таким же отвратительным, как и сама революция; к тому же, в отличие от революционного восстания, жестокая расправа с ним не могла быть оправдана всеобщим энтузиазмом и страданиями. Хладнокровное уничтожение бунтовщиков, отличающееся необычайной жестокостью, уподоблялось бесчинствам, в коих обвиняли крестьян. Если не наступил предсказанный всемирный потоп, то, по крайней мере, Германия была залита потоками крови.
Дюрер, в отличие от некоторых художников, не изображал на гравюрах Крестьянскую войну, так как не знал крестьян и не понимал их, никогда не интересовался их радостями и печалями, подобно чутким фламандцам и голландцам. Ему были чужды их молчаливое мученичество, их скромные радости, их страдания, их гнев. Они ему не казались достаточно живописными, какими они были для Плейденвурфа или Вольгемута. Им не находилось места в его творчестве или отводилось такое незначительное место, что о нем не стоило бы и вспоминать.
Питал ли он хотя бы малую симпатию к крестьянам, которые стали для него враждебными, как только взбунтовались? Дюрер занимал в этом конфликте позицию, подобно Гёте: «Он больше любит несправедливость, чем беспорядок», — так как он знает, что беспорядок губителен для искусства и творческого вдохновения, и, несомненно, он не был настолько озабочен моральными проблемами, чтобы осознать, что несправедливость сама по себе еще ужаснее беспорядка.
Дюрер не пострадал от бесчинств мятежников, и его не слишком волновали страдания несчастных крестьян и сеньоров. Он не пытался разобраться, кто прав, а кто виноват. Хотя он так страстно поддерживал Лютера и был окружен друзьями-реформаторами, желающими видеть его в своих рядах — Иоганном фон Штаупитцем, объединившим интеллектуальную элиту Нюрнберга, Лазарусом Шпенглером, секретарем городского совета, переписывавшимся с Лютером, и фламандским художником Яном Скорелем, его учеником, поклонником реформатора, — несмотря на оказываемое на него влияние окружающих, Дюрер на самом деле никогда не был ярым сторонником Реформации. До последних дней жизни он верил, вопреки всему происходящему, что все уладится, что можно избежать раскола и уладить отношения с Церковью.
Тем временем религиозная и гражданская войны пошли на спад, в стране воцарилась атмосфера растерянности, смятения, идейного разброда, страха. Страх перед эпидемиями, которые порой потрясали страну, вызывая тем большую тревогу, что они трудно поддавались диагностике. Всеобщий страх, страх без причин, являющийся одной из составляющих примитивного мышления, снова возродился в конце Средневековья и продолжал властвовать в Германии до эпохи барокко. Ожидание нового потопа — лишь одно из проявлений этого психоза. Дюрер верил в это так же, как Лютер верил в то, что демоны вмешиваются во все его дела. Лютер насмехался над дьяволом, но в то же время боялся его так же, как боялись Матиас Грюневальд и Иероним Босх, о чем свидетельствуют их картины.
Несомненно, крестьянская война вызвала яростную враждебность к восставшим крестьянам, злодеяния которых могли сравниться только с жестокостью их противников. Однако остается только сожалеть о том, что Дюрер настолько поддался общему настроению, что решил нарисовать проект монумента в память о разгроме крестьянского восстания. Заметим, что сделал он это не для того, чтобы восславить победителей, а чтобы напомнить, какие потоки крови пролиты во время гражданской войны. Вызывает глубокое сожаление сам проект памятника в виде колонны, на вершине которой сидит крестьянин в состоянии прострации, буквально раздавленный судьбой, в спину несчастного воткнут меч, а под ним — нагромождение предметов крестьянского быта. Хотя существуют другие, классические модели триумфальных колонн, но эта, задуманная Дюрером, должна была прославлять поражение крестьян не оружием, а скромной домашней утварью. Ларь для овса, котел для варки сыра, огромный молочный кувшин, в который вставлены навозные вилы, лопаты, мотыги, ивовая клетка для кур нагромождены друг на друга в хрупком и комичном равновесии, чтобы поддержать эту полную скорби и отчаяния фигуру крестьянина, раздавленного в попытках улучшить свою жизнь, добиться справедливости и милосердия.
Равнодушным к людской нищете, высокомерным и беспечным — таким предстает Дюрер на страницах, где он комментирует политические распри и социальные потрясения в Германии начала XVI века. Непонимающий, упрямый, замкнутый, упивающийся собственной славой, он кажется неспособным испытывать чувство жалости и симпатии. Нет и следа той теплоты и нежности, которые светятся в любом эскизе Рембрандта. Невольно задумываешься над тем, не могла ли привычка работать с металлом, сначала в мастерской отца, а затем гравером, стать одной из причин появления подобной черствости.