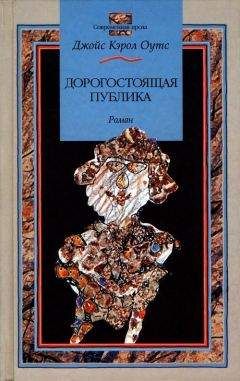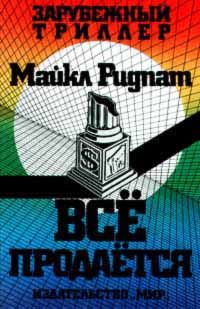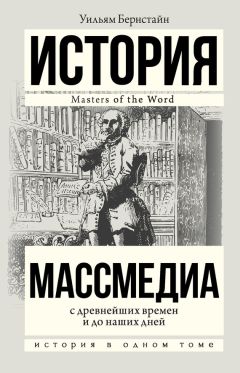Герман Юрьевич - Хогарт
Если говорить беспристрастно и не бояться оскорбить великого живописца обидным сравнением, то можно сказать, что он делал то же самое, что Кент или Торнхилл. Только то, что Кент делал вульгарно, а Торнхилл просто скучно, Хогарт делал со всем доступным ему блеском и умением, отдавая свой драгоценный талант величественным и многозначительным пустякам. Вдохновляясь Рафаэлем, он все же не мог, да и не старался научиться у него возвышенной и глубокой философичности. Его, хогартовская философия оживала от соприкосновения с нынешней реальностью, и только ею питались лучшие его работы.
Но и тут, в самом тесном общении с этой вдохновлявшей его реальностью Хогарт ухитрялся порой создавать поразительно пресные вещи. Тогда же примерно, когда и «Нахождение Моисея», сделал он новую серию гравюр «Усердие и леность», серию большую — из двенадцати листов, то есть вдвое превосходящую числом «Модный брак».
«Усердие и леность» занимает обычно почетное место в биографии Хогарта, в этой серии такое множество благородных идей, что их с лихвой хватило бы и на сотню гравюр; все точки над «i» расставлены, и ни у автора, ни у зрителей не возникает ни малейшего сомнения в том, где добро, а где зло. Естественно, что всякое художественное произведение, где автор прямо, не прибегая Ни к каким околичностям, высказывает свои мысли, где все его представления о морали обнажены и поданы в виде откровенных нравоучительных сентенций, — предмет особого пристрастия исследователей. Тем более, высказываемые Хогартом мысли настолько справедливы, убедительны и безупречны, что рисуют его с самой выгодной стороны.
И в самом деле — рассказ о двух учениках ткача, один из которых с самого начала преисполнен усердия, прилежания и рассудительности, а другой просто тонет в лености, легкомыслии и беспутстве, развивается с такой удручающей и неуклонной логичностью, что непорочность авторской позиции просто подавляет зрителя. Прилежный ученик становится лорд-мэром Лондона, ученика же ленивого казнят. Тут уж не приходится искать многозначных и противоречивых мыслей.
Правда, Хогарт откровенен, он и не пытается скрыть неприкрытую риторику своих эстампов, не случайно они сделаны с рисунков, а не с картин, — художник с самого начала задумал не повторения живописных полотен, а именно серию назидательных гравюр. Более того, он сопровождает каждый лист евангельским текстом, делая эти эстампы своего рода иллюстрациями к принятым в ту пору формулам морали и нравственности.
Правда, Хогарт снабжает свои гравюры сотнями прелюбопытных подробностей, показывая злоключения нерадивого ученика (об ученике прилежном гравюр куда меньше), и вновь оживляет перед зрителями трепещущую панораму лондонской стремительной и суетливой жизни, освещая ее блеском тонкой и остроумной своей наблюдательности.
Правда, Хогарт мастерски компонует каждый лист, точно развивая сюжет и движение характеров, безупречно рисует фигуры, наполняя каждый лист светом таланта и артистизма.
И все-таки гравюры смертельно скучны. На них просто невозможно смотреть после «Модного брака».
Тут сказывается, естественно, дистанция между веком XVIII и нынешним. Зритель XX века упорно сопротивляется наивным наставлениям и прямолинейной добродетели, ревнители прописных истин кажутся ему невыносимыми и ограниченными педантами. А между тем такова была эпоха: она брала с художников жестокую дань, неукоснительно требуя от каждого быть хоть в какой-то степени просветителем, давать людям не только пищу для тонких размышлений, но и простейшие истины, прямо говорить, что хорошо и что дурно, где проходит граница между добром и злом.
В той или иной форме, в той или иной степени почти каждый писатель, поэт или живописец — от “Батлера до Шеридана, Руссо или Дидро, от Свифта до Шардена и Грёза вносили, что могли, в копилку простоватых буржуазных добродетелей, которые, сплавляясь воедино, превращались в конце концов в чистое золото новых нравственных принципов третьего сословия.
Потребность провозгласить простые и добрые истины соседствовала у Хогарта с надеждой на успех у прежде не знавших его зрителей, а нарочитая азбучная сентенциозность сюжетов была, быть может, продиктована желанием найти, наконец, своего рода моральный идеал, к которому подсознательно или осознанно стремится любой художник.
При всем своем простодушии «Усердие и леность» — серия трогательная. Порок показан в ней с искренним отвращением и вполне пуританской нетерпимостью, а похвальные поступки прилежного ученика — с восторженной умиленностью. И надо думать, что зрители, знавшие имя Хогарта по прежним его сериям, знавшие, как глубоко постиг художник мирское зло, с доверием воспринимали эстампы: человек, познавший язвы действительности, убеждает людей в существовании добра куда лучше, чем наивный идеалист.
Все это так, но в истории искусства «Усердию и лености» удержаться трудно. Зато доподлинно известно, что школьные учителя с удовольствием вешали оттиски этих гравюр в классах. Так что к пятидесяти годам Хогарт был известен и школьникам, и ценителям исторических картин, и собирателям эстампов. Однако известность эта хоть и тешила тщеславие, но не приносила глубокой и покойной радости не зря прошедших лет. Жизнь, впрочем, далеко еще не прошла. А что до печальных, или, во всяком случае, тревожащих итогов минувшего, так ведь может статься, что Хогарт смотрел на жизнь веселее дотошных биографов? Увидим. Пока же он отправляется в новое путешествие во Францию.
НЕПРИЯТНОСТИ ПО ОБЕ СТОРОНЫ ПА-ДЕ-КАЛЕ
Между Францией и Англией только что был заключен мир, непрочный, недолгий мир, предшествовавший Семилетней войне. Французы и англичане относились друг к другу с еще большим, чем обычно, раздражением, и поездка на континент была делом легкомысленным. Хогарт, предпринявший путешествие в обществе нескольких своих приятелей-англичан, сразу почувствовал, что время было выбрано неудачно. Сносный обед стоил дорого, и не везде можно было его добиться, английского языка никто понимать не хотел, а британский акцент вызывал ничем не прикрытое отвращение. Французы жили голодно и винили в этом своих недавних врагов.
И вот вскоре после приезда с Хогартом произошел пренеприятный случай, о котором, как и о многом в жизни этого господина, рассказывают по-разному. Суть дела очень проста: художника, рисовавшего на набережной Кале, заподозрили в шпионских намерениях, арестовали, а затем отправили обратно в Англию. Но подробности этой курьезной истории толкуются и так и этак.
Есть версия трагическая, согласно которой жизнь Хогарта висела на волоске. Разъяренные солдаты приволокли растерянного путешественника к коменданту порта. Пленнику учинили жестокий допрос. Комендант с удовольствием изливал на него желчь, не находившую выхода со дня заключения мира, и извечную злобу французского моряка к пришельцам из страны, почитавшейся «царицей морей». Он страшно орал на бедного художника, осыпал его французскими и английскими проклятиями и заявил в заключение, что если бы не мир, то Хогарт уже сегодня «болтался бы на крепостной стене, как подлый лазутчик». После чего все-таки отпустил Хогарта на корабль — правда, в сопровождении двух солдат и с категорическим запретом возвращаться на французскую землю.