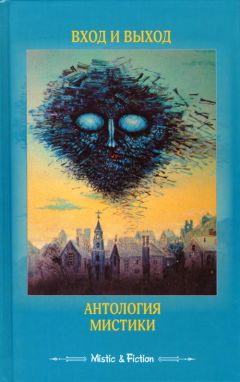Дмитрий Мережковский - Наполеон
А в редуте огонь уже затих и люди дрались молча, врукопашную, грудь с грудью, штык со штыком. Английские канониры у своих орудий давали изрубить себя на куски. Но ярость нападающих одолела наконец их упорство. Карманьолы овладели Адским редутом, как они называли его, и из их тяжело дышавших грудей вырвался крик торжества: «Редут наш!» [575]
Бонапарт выказал в тот же день величайшую доблесть. Лошадь была убита под ним, и он получил штыковую рану в бедро, такую тяжелую, что боялись, как бы не пришлось ампутировать ногу. Трудно поверить, что в тот же день он распоряжался установкой батареи на Малом Гибралтаре.
В пять часов утра карманьолы весело пошли в атаку на форт Эгийетт. Долго отстаивать его после падения редута было невозможно; англичане скоро покинули форт.
«Завтра, или, самое позднее, послезавтра, мы будем ужинать в Тулоне»,– сказал Бонапарт после сдачи Эгийетт. [576] В войске этому еще не верили, но когда предсказание исполнилось, люди не могли прийти в себя от удивления; им казалось, что Бонапарт – колдун.
Поутру 18-го республиканцы увидели, что гарнизоны покидают почти все форты Тулонского лагеря. В тот же день, к вечеру, послышался из города шум, возвещавший беспорядочное бегство. В девять часов два оглушительных взрыва потрясли город до основания; верст на семь от него был слышен подземный толчок, подобный землетрясению: то взорвались на рейде два испанских фрегата, груженных порохом.
В то же время коммодор Сидней Смит, обстрелянный бомбами и раскаленными ядрами с Керских высот, уходил с обоих рейдов. В городе со всех сторон пылали пожары – арсенала, главного военного склада, складов мачтовых и бочарных, а также двенадцати кораблей французского флота.
Карманьолы, подходившие к стенам Тулона с веселыми криками и революционными песнями, вдруг замолчали, остолбенели, как пораженные громом. Пылавшие корабельные остовы походили на потешные огни: арсенал в клубах дыма и пламени напоминал извержение вулкана. В небе пылало огромное зарево, так что ночью было светло, как днем.
И девиче тонкая фигурка больного Мальчика четко чернела на этом зареве – заре нового века: в мир входил Наполеон.
V. Вандемьер. 1794—1795
Он входил в мир, но мир его не знал; может быть, он сам себя не знал как следует.
Успеху своему радовался, но не «удивлялся». [577] Темным знанием-воспоминанием знал, помнил, что этот успех только первый шаг на таком длинном и трудном пути, какого еще никогда никто из людей не проходил.
Что Тулон взят Бонапартом, знала вся армия, но этого не знал или не хотел знать Париж. «Нужно его наградить и отличить; а если будут к нему неблагодарны, он сам найдет себе дорогу»,– писал Дюгоммье в военное министерство. [578]
6 февраля 1794 года Конвент подтвердил производство Бонапарта в чин бригадного генерала от артиллерии. Вместе с генеральским чином он получил хлопотливое, ответственное и ничтожное назначение по инспекции береговых отрядов Итальянской армии, получил и кое-что похуже.
Войсковой депутат Конвента Робеспьер Младший, очарованный Бонапартом, как все в Тулонском лагере, звал его в Париж, обещая ему, через брата, главнокомандование внутренней армией. Соблазн был велик. Но Бонапарт знал – помнил, что час его еще не пришел – «груша не созрела». Огненный юноша поступил, как охлажденный опытом старик. «Что мне делать на этой проклятой каторге?», т. е. в Терроре, ответил он Робеспьеру и отказался решительно. В этом отказе – весь Наполеон, с тем, что он потом называл «квадратом гения» и что можно бы назвать, по Гераклиту, «сочетанием противоположностей» – ледяного расчета и огненной страсти, Аполлона и Диониса. Он строит свою безумную химеру с геометрической точностью.
Наступило 9 Термидора. Максимилиан Робеспьер был казнен и младший брат его вместе с ним. «Я был немного огорчен его несчастьем, потому что любил его и считал непорочным, pur,– писал Бонапарт о своем недавнем друге все так же холодно-расчетливо. – Но если бы даже отец мой пожелал быть тираном, я заколол бы его кинжалом». [579] Скоро эта записка ему пригодилась.
Пало правительство, которому служил Бонапарт. Вспыхнул новый террор. Якобинцы доносили друг на друга, чтобы спасти свои головы. Салицети, тоже недавний друг Бонапарта, сделал на него донос в Конвент, будто бы он вступил в заговор с обоими братьями Робеспьерами, составлял для них военные планы, чтобы предать Республику ее врагам, генуэзцам, и хотел восстановить разрушенные укрепления Марселя, гнезда контрреволюции.
Конвент постановил предать Бонапарта суду. 12 августа он был арестован и посажен в антибскую крепость. Знал, что один шаг из тюрьмы на плаху, мог бы легко бежать, но помнил, что этого делать не надо.
«От начала Революции не был ли я всегда ей предан? – писал он в своем оправдании Конвенту. – Я всем пожертвовал, все потерял для Республики... Я заслужил имя патриота... Выслушайте же меня, снимите с меня тяжесть клеветы... Если же злодеи хотят моей жизни, я так мало дорожу ею, так часто презирал ее. Да одна только мысль, что жизнь моя может быть полезной отечеству, заставляет меня нести бремя ее с мужеством!» [580]
Через две недели он был освобожден, но не восстановлен в прежней должности, а назначен командиром пехотной бригады в Западную армию, в глухую и кровавую Вандею,– в ссылку, и за отказ ехать туда выключен из списка боевых генералов. Такова была награда за Тулон.
Нить жизни его оборвалась; надо было все начинать сызнова.
В конце мая 1796 года он приехал в Париж. В армии уже был Наполеон, а в Париже – никто, или хуже – темная личность, опальный генерал Конвента. Обнищал, последние деньги, привезенные из армии, истратил на неудачные спекуляции. Праздный, шлялся по улицам. Иногда находили на него минуты отчаяния: «Я почти готов уступить животному инстинкту, влекущему меня к самоубийству». – «Я очень мало привязан к жизни... У меня всегда такое состояние духа, как накануне сражения; я убежден, что ежели смерть вот-вот окончит все, то серьезно беспокоиться о чем бы то ни было просто глупо; ну, словом, все заставляет меня бросить вызов судьбе, и, если это так долго продолжится, я когда-нибудь не отскочу от наезжающей кареты». [581]
«Это было самое тощее, самое странное существо, какое я когда-либо видела,– вспоминает одна умная женщина Бонапарта тех дней. – Он носил по тогдашней моде собачьи уши, непомерно длинные, до плеч, волосы... Мрачный взгляд его внушал мысль о человеке, которого нехорошо встретить под вечер, на опушке леса... Платье тоже не внушало доверия: потертый мундир имел такой жалкий вид, что мне сначала трудно было поверить, что это генерал; но я скоро увидела, что он человек умный, или, по крайней мере, необыкновенный. Если бы он не был так худ, что казался больным и что жалко было смотреть на него, можно было бы заметить, что черты его лица удивительно тонки; особенно рот был прелестен... Иногда он много говорил и оживлялся, рассказывая об осаде Тулона, а иногда угрюмо молчал... Мне теперь кажется, что в очерке рта его, таком тонком, нежном и твердом, можно было прочесть, что он презирает опасности и побеждает врага без гнева». [582]