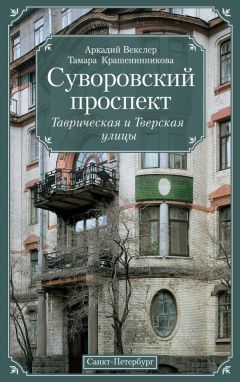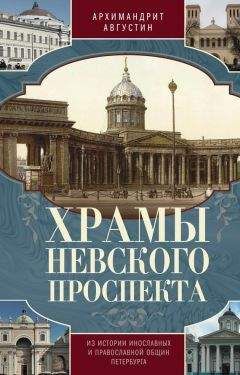Александр Николюкин - Розанов
И припомнилась Василию Васильевичу его мысль о смысле брака: „Зала. Кружатся пары в вальсе. И вот эта — вся в кисее и газе, и сама — мечта. Спрашиваю:
— Правда ли, что „мужчине красота не нужна“?
— Вуй, — сказали ее глаза (oui, по-французски).
— Что же нужно? Положение в обществе, чины, знатность?..
— Да, это… очень не мешает.
— „Не мешает“ — мало. Может быть, ум?..
— Да. Без ума скучно. Нет беседы…
Она улыбнулась.
— Все „прилагательное“: но что же главное?
Сверкнув, она обожгла меня глазами. Но не ответила. И продолжала вальсировать. Я подумал: она требует от мужа высших и всеобщих условий счастья — здоровья, молодости и красоты. Чего, конечно, не дают ни чин, ни богатство, ни ум и образование.
— А что?!!
Она проговорила, все вальсируя:
— Глупый вопрошатель. Мне нужно от мужа то, чего спросил Бог от Авраама, заключая союз“[219] (то есть „неисчислимого потомства“)».
Служба в Государственном контроле на Мойке текла размеренно и занимала все дни недели, кроме воскресенья. Каждый день Василий Васильевич «брел» с Павловской через Тучков мост и Васильевский остров и через Дворцовый мост мимо Исаакиевского собора к Синему мосту, а ввечеру возвращался обратно. Когда же тут заниматься литературной работой?
Увлекшись Египтом, он захотел посмотреть египетские рисунки в Публичной библиотеке, но оказалось, что по воскресеньям библиотека закрыта. «Что же мне было делать? — вспоминает Василий Васильевич. — „Четвертая пошла неделя <Великого поста> — а я всегда говею на четвертой, не так тесно“, — сказал мне товарищ по службе. Это меня надоумило. Я отпросился у начальства говеть и с энтузиазмом, какого не могу передать, поспешил в понедельник в заветные и с тех пор священные для меня двери Публичной библиотеки, в ее знаменитые, тихие, поэтические залы „отделений“. В самом деле — это прекраснейшее, религиознейшее (по серьезности) здание в Петербурге. Но что читать? А я страшно торопился. Полочек, шкафчиков специально с Египтом — нет. О! теперь я уже знаю все уголки, где старый египетский аист свил себе гнездо, но тогда не знал. К счастью, помог мне случайно встреченный там знакомый. „Да вот длинные красные томы…“ И я погрузился. В шесть дней недели я не терял минуты; потом — немножко страстной недели, потом — субботы летом (день, свободный от занятий в Петербурге) и среди обычно служебной недели хоть денек скажешься больным — и все сюда, в знаменитые и прекраснейшие „отделения“. Согрешил, украл у христианского Бога одно говенье и заглянул в Фивские и Гелиопольские святилища»[220].
Так зародилась страсть к Египту, которую Розанов запечатлел во многих своих книгах («В мире неясного и нерешенного», «Люди лунного света», «Из восточных мотивов», «Апокалипсис нашего времени»).
Преклонение перед Египтом и его древней культурой доходило у Розанова до того, что он, проникнувшись «египетским духом, писал о египетских залах Эрмитажа: „Мне кажется, нельзя допускать этим птенцам в смокингах и в корсетах входить в музеи — не накинув „белого общего халата“, как не дозволяется без такого халата входить в операционные. Ведь для мумий и сфинксов есть „операция“, если глядит на него смокинг в золотом пенсне. А служители (сторожа) должны быть одеты по-египетски. Теперь же „египетский зал с посетителями“ представляет невыносимую какофонию. И в нем „от смешанности души“ наблюдатель ничего не может понять“»[221].
Максимилиан Волошин как-то сказал, что «новое понимание мистической Греции в лице Вячеслава Иванова» ведет дальше — «к новому пониманию мистической сущности Египта, которое уже брезжит кое-где, например у Розанова» [222].
В 1895 году в Петербурге разыгралась первая, хотя далеко не последняя история Розанова с цензурой. В июньском номере журнала «Русский вестник» шла его статья «О подразумеваемом смысле нашей монархии». Цензор Коссович усмотрел в ней крамолу, хотя консервативный образ мышления автора был вполне известен и недвусмысленно выражен в статье.
В связи с этим Петербургский цензурный комитет писал в Главное управление по делам печати: «Статья отличается выдающеюся резкостью нападок на весь административный государственный строй… Автор статьи, искренний приверженец и почитатель самодержавия, чрезвычайно зло и бесцеремонно осмеивает весь бюрократический механизм, ставший, по его мнению, вредным средостением между единоличною волею царя и народом. По его понятиям, для этой грязной тени Акакия Акакиевича, как он обыкновенно величает бюрократию, in gremio <в глубине>, ей все единственно — „пади монархия, настань республика — почерк (делопроизводства) не дрогнет, тусклая речь не станет ярче“»[223].
Номер журнала был арестован, и 3 июня цензурный комитет сообщил в Главное управление по делам печати, что статья Розанова исключена из книжки журнала. Василий Васильевич обратился к самому Победоносцеву, но обер-прокурор Синода при личной встрече сказал ему: «Объясняйте механизм падения монархии на Франции, но не объясняйте его на России»[224]. Поневоле пришлось смириться.
Первой книгой, вышедшей у Розанова в Петербурге, стала «Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского». Современники, и прежде всего К. Леонтьев, обратили внимание на оценку в ней Гоголя как писателя «холодного».
Писателей Розанов разделял на «холодных» и «теплых». Со своим апофеозом «интимности» он не мог переносить «холодных» и больше всего страшился в литературе «холода». «Ах, холодные души, литературные души, бездушные души. Проклятие, проклятие, проклятие»[225], — писал он позднее. Даже перед смертью завешал «предупредить этот холод».
Все «холодные» писатели, утверждал Василий Васильевич, вышли из Гоголя и жили сейчас же после Гоголя. «В Гоголе же — мировой центр или фокус „ледникового периода“». Существуют «шумные писатели», говорил Розанов: «Был шумный Скабичевский, шумный Шелгунов, а уж Чернышевский просто „гремел“, — и тем не менее они все были, в сущности, холодные писатели; как и Герцен есть блестящий и холодный писатель. Мне кажется, теплота всегда соединяется с грустью, и у Страхова есть постоянная тайная грусть; а те все были пресчастливы собою»[226].
«Заговорив неблагоприятно о Гоголе» (но совсем иначе, чем когда-то Белинский), Розанов и «подкупил» Леонтьева, как признавался тот в пространном письме 24–27 мая 1891 года: «Это большая смелость и великая заслуга».