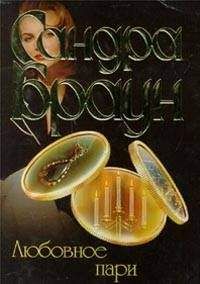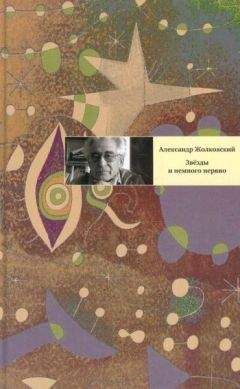Александр Жолковский - Звезды и немного нервно
Ехать надо было через всю Итаку, то есть на велосипеде не менее получаса. Было солнечное утро, впереди необозримо расстилался выходной день, я крутил педали, предвкушая встречу и продолжение осады.
Оказалось, что в дом она въехала только что — гардины, еще не повешенные, валялись на полу. Наконец, я мог рассмотреть ее на трезвую голову и при свете дня. Ее красоты это не убавило. Фигура была по-прежнему уютно тяжеловата, лицо по-прежнему сверкало и влекло, и я опять принялся за свое. Помог и берет, обнаруженный в машине.
Мы болтали, я лез обниматься, она уклонялась, кивая на незанавешенные окна, но не гнала меня, периодически кормила, то позволяла себя целовать, то отстранялась. Я узнал, что она ирландских кровей, не замужем, занимается женской литературой, преподает в каком-то дальнем колледже, но, побывав в Белладжо, цитадели культурной элиты, решила перебраться поближе к звездному Корнеллу.
С наступлением темноты я перешел к штурму. Опять как бы нехотя, но и не особенно сопротивляясь, она уступила. В дальнем от окон углу она постелила на полу, разделась.
У меня захватило дух. Передо мной, застыв, как на классическом полотне, лежала обнаженная красавица, с немного тяжелыми бедрами, небольшой, но правильной грудью и сверкающим лицом в раме темнокаштановых волос.
Что именно было дальше, не помню, помню только, что, в общем, ничего из этого не вышло. Все мои наскоки как-то увязали в ее благожелательной безучастности.
— В чем дело, тебя что-то во мне отталкивает? — недоумевал я.
— Ничто в тебе меня не отталкивает. Просто у меня совсем другие вкусы.
Я понял и оставил попытки. Мы оделись, опять поели, еще поболтали, и я засобирался домой. Она стала меня удерживать, какая-то, как говорят в Америке, химия между нами была, но я ждал звонка Ольги с Западного берега, где вечер только наступал. Я соврал, что по делам развода должна звонить жена, — понимаешь, брак, развод, увидимся завтра. Что-то ее задело.
— Брак? Объясни мне брак, ну хотя бы на уровне вводного курса — «Marriage 101»?
Нашла, у кого спрашивать, подумал я и уехал.
Поговорив с Ольгой, я позвонил Энн-Луиз. Было поздно, но она взяла трубку.
— Дроу.
— Я приеду?
— Нет.
— Ладно, позвоню завтра.
— Нет.
Я звонил каждый день до отъезда и несколько раз в дальнейшей жизни, но слышал только односложное «Дроу» и безоговорочный отказ. Больше я ее не видел.
Десяток лет спустя в букинистическом магазине в Нью-Йорке мне попалась ее книга с неузнаваемо погрубевшим лицом на задней стороне обложки, а сейчас я для порядка заглянул в интернет. Карьера, хотя и не в Корнелле, сделана — она заведует кафедрой чего-то женского. Лицо старое, жесткое, угловатое. Никаких следов neiges d’antan. И даже неясно, включать ли ее в список.
Гальциона
Интертексты дошли до меня не сразу. В семиотическом истеблишменте о них заговорили еще в 60-е годы, когда нас со Щегловым занимало порождение отдельного текста (и системы мотивов) одного автора. Я долго не принимал Бахтина и недооценивал интертекстуальные работы Тынянова. А над любителями цитатности посмеивался как над представителями особой «остзейской» школы, имея в виду прибалтийское расположение Тарту, где группировались Левинтон и Тименчик, а также рижское происхождение последнего и эстляндское — К. Ф. Тарановского (отец которого был до революции ректором Дерптского университета).
Прозрел я уже на Западе. В академическом плане сыграло роль знакомство с теориями Блума и Риффатерра — современными вариантами формалистского учения о пародии и литературной эволюции. А житейски сказались автомобильные поездки по Европе, пресловутые камни которой проинтертекстуализованы до предела.
Обратившись, я по-неофитски бросился в другую крайность — стал видеть подтексты повсюду и с энтузиазмом настаивать на их программности. (Недавно Щеглов передал мне слова М. Л. Гаспарова: «Если Александр Константинович решит что-нибудь связать, то можно не сомневаться, — свяжет».) Василия Аксенова я так замучил выявлением у него неизвестных ему самому подтекстов (в частности, из бабелевской виньетки о Казанцеве, знавшем все замки в Испании, ср. Дрожжинина с его Халигалией в «Затоваренной бочкотаре»), что однажды он не выдержал и дал мне сдачи. Он спросил, читал ли я «Ожог», и если да, то не оттуда ли почерпнул некоторые свои идеи о Зощенко. Заглянув в соответствующую главу романа, я обнаружил там обещанный подтекст, на который, как честный офицер, и сослался при следующей оказии.
Но совершенно хрестоматийный урок такого рода преподнесла мне сама Жизнь — в своей роли Тотального Текста.
В сентябре 1985 года мы с Ольгой путешествовали по Испании. Маршрут был проложен на высоком культурном уровне: Барселона — Гранада — Толедо — Сан-Себастьян; в конце пути намечался Париж. Помимо очевидных Сервантеса, Эль Греко, Гауди, Дали, мавров, Карла V («римского императора», который столь металингвистически «говаривал» в учебнике родной речи) и проч., над автопробегом витали Ильф и Петров и Хемингуэй. Словом, в интертекстуальном фоне недостатка не было.
Но оставалось как будто место и для нехитрых речей практического ряда. В какой-то момент Ольга, теплолюбивая калифорнийка, стала с беспокойством приглядываться к появившемуся на горизонте облачку, опасаясь дождя и кутаясь в приготовленный на этот случай плащ. Решительно подавив в себе школьные реминисценции из «Капитанской дочки», я ответил, что это пустяки, здесь тепло и хорошо, но едем мы, действительно, на север, дело идет к осени, и неизвестно, какая погода в Париже, где нас могут ожидать холод, ветер и дождь.
Прошло, наверно, полчаса, прежде чем я сообразил, что я сказал. Почти слово в слово я подал знаменитую реплику Лауры из «Каменного гостя»:
Приди — открой балкон. Как небо тихо;
Недвижим теплый воздух, ночь лимоном
И лавром пахнет […]
И сторожа кричат протяжно: «Ясно!..»
А далеко, на севере — в Париже —
Быть может, небо тучами покрыто,
Холодный дождь идет и ветер дует. —
А нам какое дело?…
Надо сказать, я не только знал этот пассаж, но и читал разнообразные комментарии к нему пушкинистов и даже сам писал о нем. Так что особый российский кайф по поводу северности Парижа при взгляде из Испании был мной давно отрефлектирован. И хотя я мог поклясться, что говорил в простоте душевной, тут-то, как сказал бы Зощенко, он, интертекст, и подтвердился. (Как подтвердился и О. Бендер: «Слушайте, что я накропал вчера ночью при колеблющемся свете электрической лампы: “Я помню чудное мгновенье…”… И только на рассвете… вспомнил, что этот стих уже написал А. Пушкин!»)