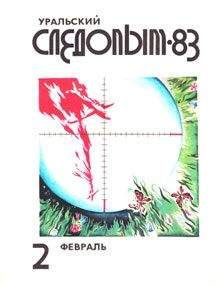Лев Копелев - Хранить вечно. Книга вторая
- Этот? Ага, тот самый…
Так я получил выписку. А потом пришел за копией приговора для Парткомиссии. Опять было щемящее, унизительное ощущение то ли страха, то ли тревоги. Опять приходили глазеть на меня штатские и мундирные. В канцелярии сказали, чтоб за копией пришел через несколько дней.
Но уже на следующий день меня вызвали на заседание Парткомиссии. В старом доме на Знаменке (ул. Фрунзе) некогда было юнкерское училище, потом Реввоенсовет и наконец Главпур, белые колонны, красные ковровые дорожки. За длинным столом сидели поблескивающие погонами, пуговицами, шитьем и орденскими колодками полковники, подполковники, какие-то морские чины, кажется, и генералы. Меня посадали у торца. Докладывал партследователь. Нудным, бесцветным голосом он читал по бумажке, словно бы написанной Забаштанским. А потом мне задавали вопросы - и вопросы были злобные, не нуждавшиеся в ответах:
- Так как же вы могли заступаться за немецких солдатов, как вы могли забыть об их злодеяниях?
- Что же вы себе думали, когда вместо того, чтобы выполнять боевое задание на территории противника, вступали в пререкание с командованием, мешали солдатам и офицерам?
- Ваша боевая задача была - разлагать войска противника, так? А вы, значит, разлагали свои, советские войска? И после этого еще посягаете, чтоб вам вернуть партбилет, а еще, может, и наградить?
Моих возражений никто не слушал. Когда я отвечал, они переговаривались между собою, листали бумаги, курили. Когда я сказал о решении трибунала, кто-то крикнул:
- Трибунал освободил вас от уголовной ответственности, это еще не означает рекомендации в партию… Где этот приговор, почему его нет в деле? Ага, не представил!
Моя голова была словно наполнена кипятком до самой макушки, в глазах, в ушах пульсировал жар. Я пытался говорить о фактах, о том, как изобличили клеветников, почему им удалось тогда обмануть партсобрание и почему я недостаточно спорил.
- Он еще называет клеветниками честных коммунистов, которые с ним возились. Какая наглость!
- Как же так получается? Вы осмелились выступать против решения ГКО, против решения советского правительства и Верховного командования и теперь имеете, так сказать, смелость требовать, чтобы вам вернули партбилет?
Я сказал, что это клевета, что в партийном деле есть материалы, убедительно опровергающие эту клевету, - заявление майора Гольдштейна который присутствовал при разговоре, когда по лживому доносу Забаштанского…
- Ну, конечно, Гольдштейн за него заступается… - сказал как бы в сторону, но достаточно внятно широкоскулый белобрысый полковник. - Гольдштейну мы, значит, должны верить, а боевого русского офицера признать клеветником…
- Как вам не стыдно, Гольдштейн такой же советский офицер и никак не менее боевой… Я не ожидал здесь услышать такие речи…
Председательствующий застучал карандашом, издали я не видел его лица, слышал, только сытый, самодовольный голос:
- Призываю вас к порядку! Вы собираетесь поучать Парткомиссию Главного политического управления Вооруженных сил? Вы там немцам лекции читали, а теперь собираетесь нам тут читать лекции по гуманизьму…
Вокруг засмеялись, захихикали, захохотали…
- А я так думаю, мы в ваших лекциях не нуждаемся. Что вы еще можете добавить? Но чтобы по существу, только по существу, только конкретно…
Я пытался повторить свое последнее слово подсудимого - сокращенно. Я слышал, как говорю чужим, сдавленным голосом, но на несколько минут я все же заставил их слушать. Стало тихо; больше не прерывали. Кончил я патетически, мол, никогда не боялся признаваться в своих ошибках или провинностях, но в этом деле нет на мне вины ни в словах, ни в мыслях, я жил, живу и до последнего часа буду жить для партии Ленина-Сталина…
Председательствующий сказал:
- Вы можете быть свободны, решение Парткомиссии узнаете завтра у товарища такого-то (партследователя).
На следующий день я услышал по телефону казенно-неприязненный голос:
- Окончательное решение Парткомисия отложила до получения полного текста решения военного трибунала по вашему делу.
20 февраля, ровно через полтора месяца после первого дня свободы, я опять пришел в трибунал. Тот же коридор, та же канцелярия, те же штатские и военные канцеляристы, но что-то неуловимо изменилось вокруг. На меня смотрели с любопытством, но иным, настороженным или неприязненным.
Хмуро вежливый капитан завел меня в боковую комнату.
- Посидите здесь несколько минут…
И я сразу же явственно представил: вот сейчас войдут с ордером. Что у меня с собой? Рублей 30, не больше, и папирос не полная пачка… За одно мгновение я стал опять арестантом. Опять перехватило глотку отчаяние… И опять начал приказывать себе: не распускаться, хуже не будет, чем уже было.
- Решение трибунала по вашему делу отменено по протесту Главного военного прокурора как недостаточно обоснованное. Военная коллегия постановила передать на новое рассмотрение со стадии судебного следствия в новом составе трибунала.
- Что это значит? Я опять арестован?
- Нет. Решения о мерах пресечения не принималось. Но вы должны дать подписку о невыезде.
Ощущение такое, словно нырнул, было, глубоко в омут и опять вынырнул… Вокруг свет, звонкость, простор…
- А когда будет новое слушание?
- Пока неизвестно. Вероятно, скоро. Ухожу, и по дороге снова наваливается ужас. Это у них просто сейчас не было ордера, а потом придут. Может быть, еще сегодня.
Прихожу домой, задыхаясь от быстрого шага, от панически мечущихся мыслей. Маме стараюсь объяснить возможно осторожнее, чтобы не завопила, не напугала девочек: они уже вернулись из школы. И соседям не надо знать. Начинаю рыться в бумагах, в книгах, отбирать на уничтожение - немецкие трофейные газеты, журналы и книжки, сохранившиеся еще от моих приездов с фронта, издания двадцатых годов, книги «врагов народа» - Пильняка, Бабеля, Бруно Ясенского, конспекты, письма, которые могли бы показаться подозрительными. Все это я рвал на мелкие клочки, выбрасывал в уборную, жег в старом тазу… Разумеется, украдкой, чтобы не заметили.
Пришла с работы Надя, стала мне помогать. Мама побежала к адвокату. Звонили друзья и знакомые. Что-то говорили о работе, приглашали в театр, на дни рождения. Что я мог им отвечать?
Вчера еще это была и моя жизнь, а теперь?
… Когда в феврале сорокового года смертельно заболел Владимир Романович Гриб, друзья пришли к нему в больницу проведать. Он спросил:
- Как у вас там дела на том свете?
Эти слова тогда поразили меня и прочно застряли в памяти, хотя я не мог объяснить почему. В подъезде больницы на Пироговской все время толпились его друзья, студенты и аспиранты. То и дело кто-нибудь убегал добывать лимоны, аскорбиновую кислоту, тогда она была еще редкостью, ее доставали через летчиков, водивших самолеты в Берлин. В просторном вестибюле мы сидели, стояли, курили, тихо разговаривали, все уже знали, что надежды нет, что чудес не бывает… Белокровие. Но мы расспрашивали выходивших от него родственников, радовались, когда температура поднималась с 35,7 до 35,9, когда уровень гемоглобина сохранялся вот уже вторые сутки. Ведь он был еще жив… В подъезде больницы мы говорили об институтских событиях, о сообщениях из Финляндии - наши войска наступали на Выборг, - в театре Ленсовета премьера «Марии Стюарт», поразительно играет Половикова.