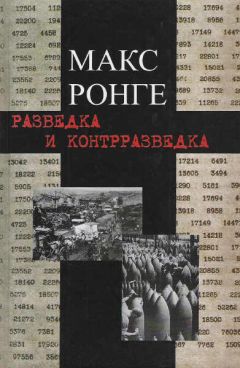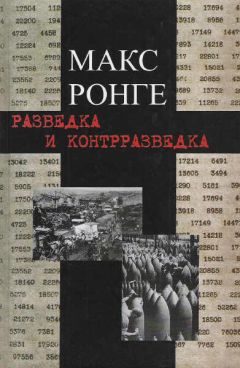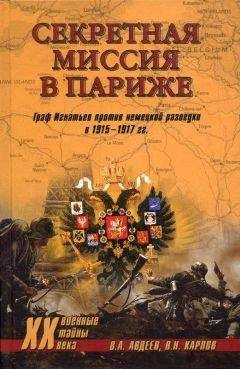Иоганн Эккерман - Разговоры с Гете в последние годы его жизни
— То же самое поражает меня у Шекспира, — вставил я, — прежде всего в Фальстафе, который окончательно запутался в своей лжи; я каждый раз задаюсь вопросом, что бы я заставил его сделать, как вызволил бы его из злополучных тенет, но Шекспир, разумеется, намного изобретательнее меня. А то, что вы говорите это же о лорде Байроне, вероятно, наивысшая из похвал, которая может выпасть на его долю. Впрочем, — добавил я, — поэт, одинаково знающий и начало и конец, куда как превосходит увлеченного читателя.
Гёте со мной согласился и даже посмеялся над лордом Байроном: он-де, никогда в жизни никому и ничему не подчинявшийся и никаких законов не признававший, в конце концов подпал под власть глупейшего закона о трех единствах.
— В сути этого закона, — сказал Гёте, — он так же мало разбирался, как и все остальные. Суть же его— единство впечатления, и пресловутые три единства хороши лишь постольку, поскольку они способствуют достижению этого эффекта. Если они ему препятствуют, то в высшей степени неразумно рассматривать их как закон и как закону им подчиняться. Даже греки, придумавшие эти правила, не всегда им следовали. В «Фаэтоне» Еврипида и в других пьесах место действия меняется [28], из чего следует, что достойное воплощение замысла было им важнее слепого преклонения перед законом, который сам по себе немногого стоил. Шекспир невесть как далеко отходит от единства места и времени, но все его пьесы создают единство впечатления больше, чем какие-либо другие, и посему даже греки признали бы их безупречными. Французские писатели стремились всего строже следовать закону трех единств, но они погрешали против единства впечатления, ибо драматическое положение разрешали не драматически, а повествовательно.
Я подумал о «Врагах» Хувальда; в них автор многое себе напортил, силясь сохранить единство места; в первом акте он разрушил единство впечатления, да и вообще в угоду нелепой причуде пожертвовал тем воздействием, которое могла бы иметь эта пьеса, за что его, уж конечно, никто не поблагодарит. И тут же мне пришел на ум «Гец фон Берлихинген», пьеса невообразимо далеко отошедшая от единства времени и места; действие ее развивается в настоящем, можно сказать, на глазах у зрителей, и потому она драматичнее всех пьес на свете, и нигде в ней не нарушено единство впечатления. И еще я подумал, что единство времени и места лишь тогда естественно и лишь тогда соответствует духу древних греков, когда событие так мало объемно, что может в отведенное ему время во всех подробностях развиться в присутствии зрителя, но какие же основания имеются у автора ограничивать одним местом большое, в разных местах происходящее действие, тем паче в наши дни, когда сцены приспособлены для быстрой перемены декораций.
Гёте продолжал говорить о Байроне.
— Его натуре, постоянно стремящейся к безграничному, — заметил он, — пошли на пользу те ограничения, на которые он обрек себя соблюдением трех единств. Если бы он сумел так же ограничить себя и в области нравственного! То, что он не сумел этого сделать, его сгубило, смело можно сказать, что он погиб из-за необузданности своих чувств.
Он сам себя не понимал и жил сегодняшним днем, не отдавая себе отчета в том, что делает. Себе он позволял все, что вздумается, другим же ничего не прощал и таким образом сам себе портил жизнь и восстанавливал против себя весь мир. Своими «English Bards and Scotch Reviewers» («Английские барды и шотландские обозреватели» (англ.) он с места в карьер оскорбил наиболее выдающихся литераторов. Потом, просто чтобы просуществовать, вынужден был сделать шаг назад. Но в последующих своих произведениях снова занял позицию непримиримую и высокомерную; даже государство и церковь он не обошел своими нападками. Эти дерзкие выходки принудили его уехать из Англии, а со временем заставили бы покинуть и Европу. Ему везде было тесно; несмотря на беспредельную личную свободу, он чувствовал себя угнетенным, мир казался ему тюрьмой. Его бегство в Грецию не было добровольно принятым решением — на это подвиг его разлад со всем миром.
Не только отречение от всего традиционного, патриотического убило в нем выдающегося человека, но его революционный дух и ум, постоянно возбужденный, не позволили ему должным образом развить свой талант. К тому же вечная оппозиция и порицание приносили величайший вред всем его прекрасным произведениям. И не потому только, что уязвленное чувство автора сообщалось читателю, но и потому, что постоянное недовольство порождает отрицание, отрицание же ни к чему не ведет. Если дурное я называю дурным, много ли мне от этого пользы? Но если дурным назвать хорошее, это уже вредоносно. Тот, кто хочет благотворно воздействовать на людей, не должен браниться и болеть о чужих пороках, а всегда творить добро. Дело не в том, чтобы разрушать, а в том, чтобы созидать то, что дарит человечеству чистую радость.
Я впивал прекрасные эти слова и радовался бесценному изречению.
— К лорду Байрону, — продолжал он, — надо подходить как к человеку, к англичанину и великому таланту. Лучшие его качества следует приписать человеку, худшие тому, что он был англичанином и пэром Англии; талант же его ни с чем не соизмерим.
Англичанам вообще чужд самоанализ. Рассеянная жизнь и партийный дух не позволяют им спокойно развиваться и совершенствовать себя. Но они непревзойденные практики.
Лорд Байрон тоже не удосуживался поразмыслить над собой, потому, вероятно, и его рефлексии мало чего стоят, что доказывает хотя бы такой девиз: «Много денег и никакой власти над тобой!»—ибо большое богатство парализует любую власть.
Но зато все, что бы он ни создавал, у него получалось, и смело можно сказать, что вдохновение у него подменяло собою рефлексию. Он постоянно ощущал потребность творить, и все, что он творил, все, что исходило от его сердца, было великолепно. Он создавал свои произведения, как женщины рождают прекрасных детей, бездумно и бессознательно.
Байрон — великий талант, и талант прирожденный. Ни у кого поэтическая сила не проявлялась так мощно. В восприятии окружающего, в ясном видении прошедшего он не менее велик, чем Шекспир. Но как личность Шекспир его превосходит. И Байрон, конечно, это чувствовал, потому он мало говорит о Шекспире, хотя знает наизусть целые куски из него. Он бы охотно от него отрекся, так как Шекспирово жизнелюбие стоит ему поперек дороги и ничего он не может этому жизнелюбию противопоставить. Попа он не порицает, ибо его нечего бояться. Напротив, много говорит о нем и всячески его чтит, слишком хорошо зная, что Поп рядом с ним ничто.