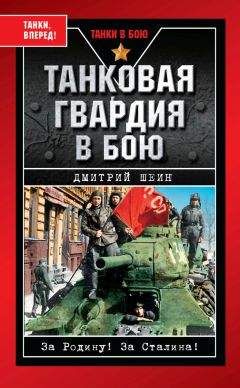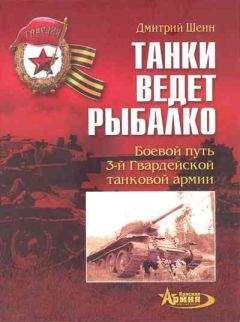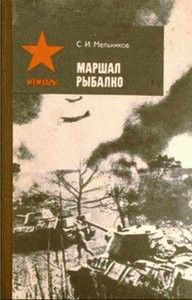Жюль Ренар - Дневник
* Есть места и есть минуты, когда мы до того одиноки, что видим весь мир.
* На охоте. Всем этим маленьким, уединенным, затерянным домикам хочется крикнуть: «Подойдите же ближе к деревне, к нам, к жизни!»
* Птица — кочующий плод дерева.
* Внутренности свиньи свежи, как приданое новобрачной. Какое прекрасное белье — эта отделяющаяся от мяса жировая ткань!
Только и есть бесполезного у свиньи, что мешочек желчи. Даже собаки не прельщаются ею. И в нас самое ненужное, пожалуй, наша горечь.
* Зайца губит его петлянье. Если бы он бежал прямо вперед, он был бы бессмертен.
* Чистое, как стакан, небо.
1901
1 января. У меня вкус к высокому, и я люблю только правду.
* Я следую за жизнью шаг за шагом, а ведь жизнь не пишет в год по книге.
* Этот «Дневник» меня опустошает. Это не творчество. Заниматься любовью ежедневно — не значит любить.
8 января. Они создают свои пьесы на бумаге. Они не видят ни действующих лиц, ни актеров на сцене. Они пишут свои пьесы в воздухе. Им не важно, где происходит диалог и между кем.
18 января. Жизнь от меня ускользает: держу ее лишь за самый кончик.
23 января. …В беспорядочном разговоре, почти бессвязном, Тристан Бернар подбивает меня работать.
— Вы слишком много читаете, — говорит он, — слишком много делаете заметок. Все у вас редкость во всех смыслах. Вы могли бы написать хорошую книгу приключений, — я в этом уверен потому, что слышал, как вы удачно критикуете пьесы. И потом, если я не надеюсь, хорошо вас зная, что вы когда-нибудь меня удивите, зато я уверен, что все вами написанное будет написано хорошо и расширит круг ваших читателей. В вас дремлет целый запас неиспользованных воспоминаний.
— Да, — отвечаю я, — но никакое побуждение, исключая желания (а у меня его нет) или необходимости (а она, увы, скоро появится), недостаточно сильно, чтобы заставить меня творить. Я не стремлюсь обязательно использовать все, что нахожу: с меня хватит записей. И к тому же я не хлопочу о «количестве». Ведь у меня впереди еще лет двадцать, и придется, хочу я этого, нет ли, добавлять к моим книгам еще книги. И потом, надо читать. И потом, столько вещей надо понять.
28 января. В противоположность тому, что сказал Бальзак, я говорю: разве у меня есть время писать? Я наблюдаю.
* Слишком сжатый стиль, читатель задыхается.
* Поэмы, виденные во сне. Разум по утрам делает с ними то же, что солнце делает с росой.
31 января. XVI век: новый язык прет изо всех пор. Весна языка. Он зелен, он пестр, он опасен, он добр.
* Прочел в «Ревю Бланш» последнюю главу «Записок сумасшедшего»[76]. Флобер начал с того, чем кончил Мопассан, — с превеликих банальностей. Напоминает «На воде», но слишком рано написано. У Флобера не показана, как в рассказе Мопассана, жизнь человека.
4 февраля. Я рассказываю Тристану Бернару, что, когда Виктору Гюго было тридцать четыре года и он путешествовал инкогнито, он обнаруживал свое имя, написанное на стенах церквей.
— Да, при своем вторичном посещении, — говорит Тристан.
5 февраля. После скарлатины, коклюша, плеврита — что теперь? Лицо врача, который уже ничего не понимает. Жар упорно держится. Врач говорит наконец:
— Нет причин для беспокойства, но я хотел бы посоветоваться с Гютинелем.
При этом имени у меня к горлу подступает такой же комок, что и тогда, когда старик Бушю сказал о Фантеке: «Это круп».
Он выслушивает Баи. Ей уже нечем дышать. Печень увеличена: очаг в плевре не расширяется, но и не уменьшается.
— Нет причин для беспокойства, — повторяет он, — но я не знаю, чем объяснить общее состояние организма.
Маринетта и я, мы уже не решаемся ни говорить, ни смотреть друг на друга, потому что слишком много говорят глаза. Как легко представить себе смерть этого маленького существа! Короткое и быстрое дыхание, вот это и есть ее жизнь! Разве не может оно прерваться?
Мой безграничный эгоизм подсказывает мне: «Я видел уже смерть моего отца. Я видел смерть брата. Может быть, нужно еще, чтобы я увидел это». Мы — эгоисты, а все-таки я согласен поменяться с ней: я уйду, пусть она останется. Это, конечно, когда я очень взволнован.
Я проживу всю свою жизнь как эгоист. Все же я знаю, что эгоизм имеет границы, бывают минуты, когда мы его отвергаем.
И вот завтра придет он, этот бог, который умеет уловить ритм нашего дыхания, который будет говорить, быть может, наобум, твердо веря, однако, в то, что он скажет!
Одиннадцать часов вечера! Все еще температура сорок, маленькое тело горит, внутренний огонь пожирает маленькую душу: отблеск этого пламени лежит на ее щеке. Веки сомкнуты, спишь ли? Спишь? Веки раскрываются. Только они и способны еще откликаться.
А мама, она здесь, она отдаст свою жизнь каплю за каплей, даже если бы пришлось с каждой каплей отдавать всю себя. Что такое сердце писателя рядом с ее сердцем?
7 февраля. Истина стоит того, чтобы мы несколько лет не могли ее найти.
13 февраля. Баи. Жар внезапно спадает, как сгоревшее белье.
В кривой температуры — маленькие колоколенки жара.
* Если утопающий сложит руки для молитвы, разве он не погиб? Так пусть же плывет без остановки.
18 февраля. … Мне ни разу не посчастливилось даже опоздать на поезд, которому суждено было потерпеть крушение.
* — Я бы охотно отдала тебе мою игрушку, — говорит маленькая девочка, — но я не могу: она моя.
* Написать жизнь Рыжика — всю, без прикрас — одну только правду. Скорее это будет книга о господине Лепике. Рассказать все. О, как мне было неловко, когда он признавался мне насчет этой грязной и хорошенькой девчонки.
Иногда мне хотелось бы узнать, что я не его сын: это было бы забавно. И даже не упоминать, что я его сын. Сказать все, как есть, без стеснения.
Закончить, после его смерти, маленьким гимном в его честь. Книга, от которой завоют и заплачут.
Я пишу не для школьниц.
Я сделал эту главу, но плохо. Я начну ее сначала.
Частью он мне расскажет свою жизнь, частью я сам ее разгадаю.
Он поминал Христа по любому поводу. Каникулы. Дилижансы. Он ходил с мешком.
Его фотографические карточки.
Эту книгу я должен рассказать, как мужчина.
«Мадам Лепик была свеженькая. Я ее не любил, но спал с ней с удовольствием».
И когда я это пишу, я чувствую, как смягчается мое сердце.
Он давал мне советы, как экономно жить.
Мари соблазняла его, но он не мог ничего сделать, потому что старуха каждую минуту входила и выходила из калитки.