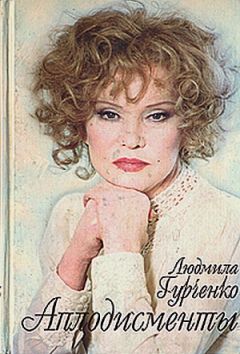Валерий Кичин - Людмила Гурченко. Танцующая в пустоте
В этой роли Гурченко выразила свое давнее наблюдение: чтобы сохранить себя в беде, человек замыкается, впадает в анабиоз, в летаргию – пережидает нагрянувшую зиму, – а иначе не выжить. И все-таки жаждет открытости. И все-таки тоскует об искренности. И уж когда возвращается к людям – возникает такое братство, такое единение и такое родство, какое и в мечтах не привидится благополучным – они и не подозревают о существовании подобного счастья.
Роль позволила ей выйти вот на такой уровень обобщений. Ведь эта ее Нина Николаевна впервые ранена была не войной, вспомним: «Муж сбежал еще до войны… только вот ремень остался… все меня бросили – наверное, не случайно…» Чтобы пережить такое, не нужно особых исторических обстоятельств. Война только углубила горе, слила его с общим. Эта роль Гурченко – не только о женщине на войне. Это ее трактат о трагедии одиночества.
Встроенный в нее камертон – постоянное невидимое присутствие в ее сознании отца – позволял услышать правду роли. Она выверяла эту правду его временем. «Он бы сейчас совсем не мог приспособиться: он был человеком „того“ необыкновенного времени», – пишет она в «Моем взрослом детстве». С «тем» временем, прошедшим на грани нервного срыва, постоянно сверялась:
– Я на экране так же слепо и глупо люблю своего сына, как папа любил меня. Унижаю отчима моего сына так же, как папа порой унижал маму. И от этого любовь героини получилась мощной, необъятной, как у моего папы. В фильме ненавижу открыто, люблю открыто, говорю то, что думаю, с открытой душой, открытым сердцем. Пою тоже громко. Так в войну жили…
Это уже «творческая лаборатория» фильма «Вторая попытка Виктора Крохина», поставленного Игорем Шешуковым по сценарию Эдуарда Володарского. Камертон работал: она играла яростно, контрастно и откровенно, ничего не пытаясь притушить, прикрыть флером «приличий». Быт в этом фильме тоже был агрессивным, его детали густо заполняли кадр: ссоры, скандалы и своеобразное братство недавних послевоенных коммуналок выплеснулись в эпизодах, сыгранных актерами на грани гротеска, – но и это не было «краской», а было правдой, потому что и в жизни сам этот быт был гротеском.
Пророчество папашино
не слушал Витька с корешом:
Из коридора нашего
в тюремный коридор ушел.
Песня Высоцкого рвалась с экрана, тоже пытаясь напомнить о бедовом времени, когда
Все – от нас до почти годовалых —
Толковище вели до кровянки,
А в подвалах и полуподвалах
Ребятишкам хотелось под танки…
Трагизм кровоточащих душевных ран – открытый, на срыве, до хрипоты – казался чрезмерным: фильм лег на полку. А с ним осталась неизвестной зрителям одна из лучших работ актрисы. Сегодня в Интернете при большом желании можно найти и эту картину, только смотреть ее придется уже как экспонат музея – кино стареет еще быстрее, чем люди.
Тема встающей из руин жизни. Вот пишу сейчас эти слова, совершенно обычные для кинокритики тех лет, – и, вслед за моей героиней, кожей чувствую их несовременную выспренность. Изменилась сама природа кино: ну кто будет вникать в эти телячьи нежности под хруст попкорна! Кого заинтересуют подвалы и полуподвалы, из праха которых поднималась насмерть раненная, истекшая кровью страна – и, даже поднимаясь, продолжала размазывать по стенке своих сыновей.
Но в ту пору кино самоуверенно числило себя в одном ряду с театром и книгой. Вместе с ними искало ответы на загадки жизни – всерьез, настойчиво, истово. Скудость тогдашней киноафиши, как скудость тогдашней жизни, была, как ни странно, почти благом: каждый фильм воспринимался как событие, о каждом было время подумать. На это и рассчитано наше старое кино – похороненное, но не умирающее.
Уже никто не помнит фильм «Особо важное задание», где Гурченко играла жену главного инженера авиационного завода Лунина, – и это снова судьба, искалеченная войной. Режиссером был Евгений Матвеев, все умевший делать только на самой высокой эмоциональной ноте. Вот и этот фильм о том, как люди в тылу на предельном напряжении сил налаживали производство необходимых фронту истребителей, снят и сыгран как непрерывный двухсерийный эмоциональный шок. Эмоция здесь – единственный способ мыслить и существовать. Сцены эвакуации переполнены душераздирающими деталями, в фонограмме не умолкала трагическая симфония исступленных воплей, лязгов, взрывов: люди не говорят, а кричат, не бегут, а срываются с места.
Гурченко, и так эмоциональная по натуре, эти условия приняла охотно. Подстроила под общий стиль, пожалуй, чрезмерную размашистость игры, придумала много характерных подробностей. В экспозиции картины ее Эльвира – избалованная успехом и благополучием, привыкшая к мехам и бриллиантам – «этакая стрекоза», говорила о ней актриса интервьюерам. Впервые мы ее встречаем на довоенной вечеринке – она плывет в томных ритмах танго. Нельзя и представить, что это изнеженное существо обнаружит мужскую силу характера, окажется способным к состраданию, даже к самопожертвованию. Это ее внезапное перерождение, вполне волюнтаристски выписанное в сценарии, могло бы показаться неубедительным, если бы ее играла не Гурченко. Но режиссер уже выбором актрисы обеспечил своей героине прочные тылы, оправдал самые неправдоподобные метаморфозы, которые с ней происходят. Она с самого начала была личностью, Эльвира, мы это чувствовали, даже когда она пыталась ослепить нас бриллиантами. И уже никто в зале не удивлялся тому, что горе вдовьей судьбы ее не сломило, что она отказалась от теплого местечка секретарши и пошла в цех, в «бригаду вдов», и теперь уже сама учит девчонок собирать волю в кулак. Гурченко в этой роли шумна и подвижна, она много, щедро поет надорванным, уставшим голосом, но приходят минуты молчания, и они – самые поразительные в этом гвалтливом фильме. Мы понимаем: пока стрекоза шумит, кричит, поет, куражится – это напускное, для людей. Истинное – это когда застывшие, округлившиеся, воспаленные глаза, когда молчание говорит больше любых слов. И это иссохшее лицо. И эта довоенная прическа «под Орлову».
Это ведь была еще одна «примерка» чужой судьбы к своей. Люся снова играла то, что знала по собственной бравурности, когда на людях, и собственному молчанию, когда наедине с друзьями, близкими, и уж тем более с собой. Она умела мгновенно включаться в любой ритм и любой праздник – и так же мгновенно гаснуть.
– В любой моей «военной» героине, – говорила она, – мне интересна оттепель души, оттепель тела, оттепель женщины. Она запретила себе любые нежные чувства, потому что этого требовала война. Но вот поменялись обстоятельства – и она дождалась! Она – оттаивает!