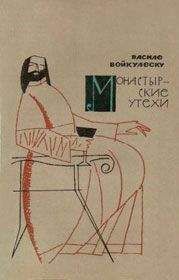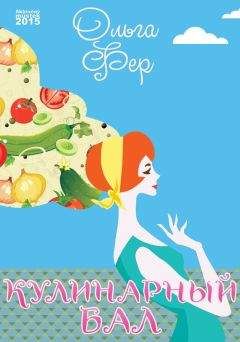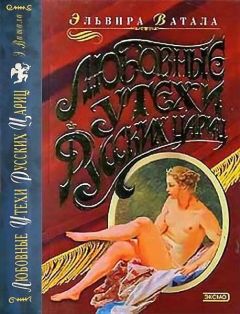Вега Орион - Любовные утехи богемы
Эта теория разрушения через удовлетворение была проиллюстрирована Флобером в последней сцене «Воспитания чувств», где мы можем видеть двух старых разочарованных в жизни друзей, которые вспоминают тот день своей юности, когда они впервые попали в бордель, причем каждый из них пришел туда с букетом цветов в руке: «Фредерик нес свой букет, словно жених, идущий навстречу своей невесте. Но от жары, от страха перед неизведанным, от своего рода угрызений совести и, — наконец, от удовольствия увидеть сразу столько женщин, которые все будут в его распоряжении, он так разволновался, что страшно побледнел и остановился, не говоря ни слова. Все смеялись, всех забавляло его смущение; он решил, что над ним издеваются, и убежал, а так как деньги были у него, то и Делорье пришлось за ним последовать.
Когда они выходили на улицу, их заметили. Произошла целая история, которая не позабылась и три года спустя.
Они с величайшими подробностями припоминали это событие, и каждый пополнял то, что позабыл бы другой, а когда они кончили, Фредерик сказал:
— Это лучшее, что было у нас в жизни!
— Да, пожалуй, лучшее, что было у нас в жизни! — согласился Делорье».
* * *Флобер и дю Камп быстро заметили, что в каирских борделях не было альм, а они составляли неотъемлемый элемент восточной фантасмагории. Где же были эти пресловутые танцовщицы, рассказы путешественников о которых источали столько красоты и чувственности? Искать их в Каире было бесполезно, сказал им Нерваль; нужно было ехать в Эснех, что в Верхнем Египте. Он также уточнил: «…теперь этот город, стоящий на месте древних Фив, является чем-то вроде Капуи для иностранцев, плывущих вверх по Нилу. Здесь есть свои Лаисы и Аспазии, которые ведут роскошную жизнь и богатеют главным образом за счет англичан. Им принадлежат дворцы и невольники, подобно знаменитой Родопе, они могли бы построить для себя пирамиды, чтобы прославить себя, если бы в наши дни было еще в моде нагромоздить на свое тело груду камней, но сейчас женщины предпочитают бриллианты».
Выехав из Каира на корабле, два друга добрались до Иены б марта в восемь часов утра. Они завтракали, когда одна женщина пришла предложить им танцевальный спектакль. В доме, куда она их привела, другая женщина, от которой пахло теребентином, окропила им руки розовой водой. И тогда появилась Кучук-Ханем. Предоставим слово самому Флоберу, который в заметках, на скорую руку сделанных в записной книжке, оставил следующее свидетельство о восхитительных моментах, проведенных в ее обществе: «[Она] светлее арабки, только кожа светло-кофейного цвета, тело упругое и чистое; когда она садится, на боках [образуются] бронзовые складки; крупные глаза, черные брови, черные вьющиеся волосы, собранные повязкой. (…) Ожерелье из полых крупных золотых бусин в две или три нитки; серьги в форме немного выпуклого золотого диска, по краям которого маленькие золотые бусины. Она спрашивает нас, не хотим ли мы небольшую фантазию. Макс просит сначала развлечься с ней и спускается. Я следом.
На первом этаже комната с диваном… Танец. Приходят музыканты, ребенок и старик, левый глаз повязан тряпкой, они оба бренчат на реббабехе, инструменте, напоминающем скрипку с металлическим ответвлением. (…) Кучук-Ханем и Бембех танцуют, танец Кучук груб, как фрикции; ее грудь сжата рубашкой таким образом, что каждая из них открыта и прижата к другой. Для танца она обматывает свою шею коричневой шалью с золотыми полосками, от которой ленточками опускаются три золотые кисточки. Она поднимается то на одной ноге, то на другой (одна нога остается на земле, другая поднимается в воздух; икра той, что поднимается, проходит около берцовой кости другой, и это сопровождается легким прыжком) (…) Кучу к взяла тарабук, ее манера игры восхитительна, левая рука с опущенным вниз локтем и поднятой вверх кистью, а пальцы бегают по коже тарабука. Эти дамы, и особенно старый музыкант, пьют водку в огромных количествах. Танец Кучук с моим тарабуком на голове. Мы выпиваем по чашечке кофе».
После этого знакомства Флобер и дю Камп отправляются осмотреть город и сделать фотографии храма. Возвращаются они только ночью.
«Ужин. Мы возвращаемся к Кучук. Комната освещена тремя фитилями в чашках, полных масла, сделанных из жести, какие бывают на стенах некоторых церквей. Музыканты на месте; поспешно берут маленькие стаканчики, денежный подарок и наши сабли производят свой эффект; входит Сафьях Зугерах, маленькая женщина с крупным носом и глубоко посаженными глазами, хищными и чувственными; ее ожерелье из пиастров тарахтит, как тележка; она входит и целует нам руки; четыре женщины садятся в ряд на диван и поют. Лампы отбрасывают дрожащие ромбы на стены, свет желтый. На Бембех розовое платье с широкими рукавами из светлой ткани и волосы, покрытые черной косынкой, как у Феллаха. Все поют, звенят тарабуки, а монотонные ребеки создают громкий басовый звук. Тихо. Мне показалось, что это была траурная песня. (…)
Совокупление с Сафьях Зугерах («малышка Софи»), которая замарала диван, она развращена, подвижна, восхитительна. Но лучшим было второе совокупление с Кучук. Ее орган напомнил мне бархатные валики, я чувствовал себя тигром. (…)
Мы занимались любовью, она хотела оставаться на краю кровати. Фитиль лампы находился в овальном стакане. После совокупления она засыпает, обняв мою руку, она храпит; свет лампы, который почти не доходит до нас, оставляет на ее красивом лбе треугольник цвета металла, остальная часть тела скрыта в темноте. Ее маленькая собачка спала на диване на моей шелковой рубашке. Так как она жаловалась, что кашляет, я поверх одеяла накрыл ее своим пальто. Я слышал, как Жозеф и охрана вполголоса разговаривали. Я предавался ярким мечтам, переполненным воспоминаниями. Ощущение прикосновения ее живота к яичкам, вульва, еще более теплая, чем живот, грела меня, как нагретое железо. В другой раз я заснул, запустив палец за ее ожерелье, словно хотел удержать ее, если она проснется. Я думал о том, как мы спали вместе. Без четверти три пробуждение и нежное совокупление (…).
Утром отъезд. Прощаемся очень спокойно. Два матроса приходят, чтобы отнести наши вещи на лодку. Ветер. Арабы, идущие по открытому пространству. Горы не были такими же нежно-розовыми, как утром, когда мы уезжали от Кучук (…)».
26-го они возвратились в Иену. Вторая ночь оказалась печальной. «Из-за всего этого стало грустно; как и в первый день, она натерла свои груди розовой водой. Все кончено, я ее больше никогда не увижу, и ее лицо постепенно сотрется в моей памяти!» Лжец! Удар резца был достаточно силен, чтобы оставить глубокий след на медном листе, с которого печатают гравюру. Настолько глубокий, что, затерявшись где-то недалеко от Константинополя, он писал своему другу Буиле: «Почему меня снедает грустное желание вернуться в Египет, подняться по Нилу и снова увидеть Кучук-Ханем?…Я провел там вечер, какие нечасто выпадают на нашу долю. Я это хорошо понял».