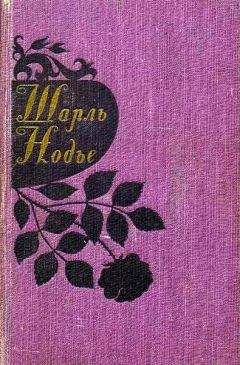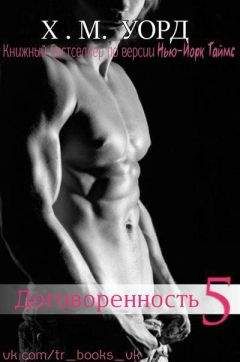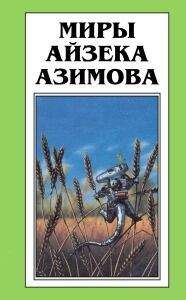Ральф Ингерсолл - Совершенно секретно
Ребята, которые сторожили немцев, сами все были кто ранен, кто подшиблен при спуске, — поэтому они все сидели. Но у каждого была хоть одна рука в исправности, в ней-то он и держал оружие. Раненые стерегли пленных, потому что в дивизии не хватало людей, и боеспособных нельзя было выделить для охраны.
Я прошел мимо пленных и направился к дому, полагая, что там находится штаб Риджуэя. Не в доме я увидел нечто не менее кошмарное. В большой комнате, где не было никакой обстановки, кроме печки, вделанной в стену, тесными рядами на полу, от стены к стене, навалившись друг на друга, переплетаясь руками и ногами, лежали тяжело раненные парашютисты. Они не безмолвствовали — нет, комната оглашалась воплями, как если бы это ревели раненные животные. Среди этой груды искалеченных людей осторожно двигались две француженки, по-видимому, мать и дочь. У одной в руках был котелок с горячей водой, и она собиралась что-то делать вместе с врачом, который стоял на другом конце. Не знаю, что делала другая. Они пытались помочь.
Врач, увидев меня, с трудом пробрался через комнату. Он сказал, что Риджуэй со штабом находится во фруктовом саду по ту сторону фермы. Я сказал ему, что приехал с боеприпасами. Он спросил, не могу ли я вывезти кое-кого из раненых.
— Не знаю, — сказал я. — А почему же нет?
— Поглядите, — сказал он. — Их здесь человек двести с лишним. По всему дому лежат. У меня все вышло. Рвем простыни, и все что под руку попадется. — Помолчав минуту, он добавил: — Надо во что бы то ни стало, хотя бы некоторых, вывезти отсюда.
Я сказал ему:
— Когда они разгрузят боеприпасы, — если все обойдется благополучно, я подъеду сюда с грузовиками, и мы посмотрим — может быть, можно будет кое-кого вывезти.
Он посмотрел на меня, как смотрит человек, который, наконец-то, услышал благую весть.
Я вышел из дому и пошел обратно мимо пленных. Один из них поднялся на ноги и пытался что-то сказать страже по-немецки, конечно, и с помощью жестов, — похоже, что он просил позволения пойти оправиться. У часового, к которому он обращался, только одна рука была в порядке, — он посмотрел на немца исступленным взглядом, наклонился вперед и навел на него ручной пулемет. Пулемет был тяжел и дрожал у него в руке. Немецкий офицер, лежавший рядом с этим пленным, ударил его по ноге, а другие немцы закричали ему, чтобы он сел. Он попятился от часового и опустился на колени; сосед с отвращением отпихнул его, и снова воцарилась тишина.
Позади пленных был пролом в стене и за стеной красивый фруктовый сад, весь в цвету, сияющий в вечернем солнце. В саду не было видно ничего, кроме одного тела, завернутого в одеяло, и машины с радиоантенной в глубине под деревьями, а напротив, у забора, стояла группа офицеров. Один из офицеров был Риджуэй, другой Рафф. Рафф приехал час тому назад. Танки его где-то бились уже с немцами.
Парашютно-десантная дивизия имеет усиленный состав до десяти тысяч человек. Риджуэй считал, что у него здесь сейчас тысячи две с половиной. Он не знал, что случилось с остальными. Мы думали, что они для нас уже потеряны; возможно, что они рассеялись при сбрасывании и приземлились где-нибудь так далеко, что на них уже нечего было рассчитывать. Оказалось, мы ошиблись. Постепенно, в течение недели, все они мало-помалу присоединились к нам. Дело в том, что их радиостанции были повреждены при сбрасывании, и они никак не могли связаться с нами. Однако в данный момент Риджуэй знал, что у него всего-навсего четверть его людского состава, причем многие, спускаясь на холмы Нормандии в темноте, были ранены. Он еще не вполне ясно представлял себе, что делается вокруг, но настроение у него было бодрое и решительное. Сам он спустился на парашюте накануне ночью, вместе со своим штабом. Большинство его штабных офицеров были здесь, и один из них, начальник отдела снабжения, с нетерпением расспрашивал, что я им привез. Мы пошли к машинам. По-видимому, мы с ефрейтором оказались дельными снабженцами, потому что больше всего здесь нуждались в 75-мм снарядах, которые я привез. 82-я дивизия успешно сбросила свою легкую артиллерию, но им пришлось прекратить стрельбу несколько часов тому назад, так как все боеприпасы были исчерпаны.
У меня сохранилось еще одно воспоминание о командном пункте 82-й парашютно-десантной дивизии в тот второй день вторжения. Это было уже после того, как я сдал боеприпасы. Мы все стояли, человек десять — двенадцать, в саду, на том самом месте, где я в первый раз увидел Риджуэя, в нескольких шагах от забора, под которым тянулась канава. До нас по-прежнему доносилась со всех сторон ружейно-пулеметная стрельба, то приближаясь, то удаляясь. Мы стояли и разговаривали, а в сад то с той, то с другой стороны беспрестанно входили кучки людей. В каждой кучке было трое-четверо совершенно перепуганных немцев, которые так высоко поднимали руки, точно они старались что-то достать в воздухе. А позади шел один — иногда два, не больше, мрачный, растерзанный наш парашютист.
Мрачный и растерзанный — это обычный вид парашютного десантника после ночного спуска на деревья и заборы. Парашютисты казались очень свирепыми, видно было, что они ужасно обозлены и неохотно подчиняются приказу приводить пленных. Рассказывали, что немцы убивали парашютистов, когда те повисали на деревьях, запутавшись своими стропами, или случалось, что, высвободив их из этой снасти, немцы не брали их в плен, а вешали тут же на месте. Поэтому наши ребята, разумеется, не прочь были расправиться с ними.
Был уже поздний вечер этого второго дня. Рафф со своей компанией, конечно, делали кое-что, но они не могли выручить дивизию. Уцелеет остаток дивизии или нет? — только эта мысль и была у каждого из нас.
И вдруг неожиданно среди непрерывной щелкотни пехотного огня раздался знакомый — резкий, высокий, пронзительный — вой, а вслед за ним оглушительный удар, при этом совсем близко. Мы стояли под рядами яблонь. И со всех этих яблонь, точно их трясли сорванцы-мальчишки, посыпались лепестки, листья, ветки. Я увидал это уже через плечо, прыгая в канаву у изгороди. Затем раздались еще два таких же удара, один за другим. Высунув каску, поверх канавы, я огляделся по сторонам, посмотрел направо и налево, и всюду из канавы высовывались такие же каски, как у меня. А на земле, с которой мы так быстро юркнули, стоял только один человек — генерал. Он стоял совсем один, с непокрытой головой, и поглядывал сверху вниз на свой штаб и на своих гостей.
Он сказал совершенно спокойно: "Мне показалось, что они пристреливаются к этой рации. Знаете, надо сказать, чтоб ее отсюда убрали. А то еще ранят кого-нибудь".
В рассказе это, конечно, не производит большого впечатления, но скажу вам — это действительно была минута! Дивизия была отрезана, людей не хватало, никто понятия не имел, что будет дальше, — все это создавало такое напряжение, что оно в любую минуту могло прорваться, стоило лишь немцам обнаружить наш командный пункт, где находились раненые, и тут же и пленные, и сам командир со штабом, и вся связь. Один миг нерешительности — и вся та сила, которую зовут "воинским духом", разбилась бы, как стекло, брошенное о камень. Разумеется, это было сущее безумие со стороны командира — стоять вот так, даже без каски, в то время как 88-мм снаряды рвались вокруг. Но он вынужден был так поступить, и это было великолепно. Риджуэй сделал это с большим тактом и достоинством. И с настоящим мужеством.